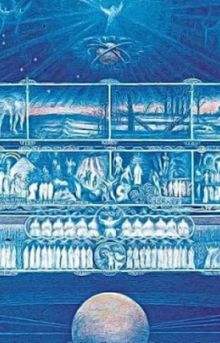Денис Мантуров, новый вице-премьер и шеф Минпромторга РФ: «Сегодня нужно осуществить поворот от абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета».
Как говорится, «умри — лучше не скажешь». По сути дела, Денис Мантуров (а он — лучшая кандидатура из нынешнего состава правительства) поставлен по пост с задачей провести новую индустриализацию страны, хотя само это слово так и не произносят ни президент Путин, ни премьер Мишустин. Говорят лишь об импортозамещении, что в корне неправильно: нужно ставить задачу именно индустриализации и технологического суверенитета.
Однако такая задача стоит объективно, и назначение Д. Мантурова вице-премьером 15 июля 2022 года — тому подтверждение. Однако, что придётся достраивать для выполнения грандиозной исторической задачи?
Пробуждение советского планового духа?
Выступление Дениса Мантурова на заседании Государственной Думы 15 июля 2022-го вселило во многих большие надежды. В самом деле, Денис Валентинович говорил ясно и по делу. Вот что нужно сделать в «оборонке», в топливно-энергетическом комплексе, в авиа- и судостроении, в производстве дизелей, в малотоннажной химии и прочем — в обеспечении технологической независимости. Вырисовался некий семилетний горизонт планов, воскрешая в памяти Семилетку при Хрущёве. Новый вице-премьер говорил о том, что государство на нынешнем этапе должно финансировать важнейшие для суверенитета страны производства, ибо на чисто рыночных принципах (слишком мал масштаб производства) они не окупятся и не станут интересными для частника.
Очень конкретная речь вице-премьера (и министра) напомнила мне деловые выступления министров топлива и энергетики Петра Родионова и Виктора Калюжного в конце 90-х и тогдашние же речи шефа Минатома Евгения Адамова (всех их тогда выжили из правительства).
Денис Валентинович выказал себя твёрдым сторонником протекционизма в стиле Менделеева и его "Толкового тарифа". То есть он резко противоположен прежней политике «вписывания» РФ в глобальные торгово-производственные цепочки, каковой курс вёлся хоть при Ельцине, хоть при Путине, создав нашу опасную зависимость от импорта.
Мантуров повёл речь уже об импортоопережении — о создании чего-то первыми в мире, что уже означает намерение отказаться от порочной позднесоветской и российской практики: копировать вчерашние заграничные достижения, не решаясь на роль первопроходцев.
Однако говорить о возврате к практике СССР не приходится. Отвечая на вопрос депутата Оксаны Дмитриевой, которая предложила вспомнить опыт советских отраслевых министерств (вплоть до ведомственных вузов), Денис Мантуров ответил, что это невозможно — уже нет тотально государственного социалистического сектора. И придётся применять опыт стран со смешанной экономикой. Причём из контекста (и из названия самого базового ведомства Мантурова, Минпромторга РФ) ясно, что он имеет в виду опыт Японии с его суперведомством — Министерством внешней торговли и промышленности (1949–2001 гг.)
Но для достижения поставленной цели в РФ придётся достраивать очень и очень многое. Хотя уже появились экстравагантные версии.
«Мантуров должен создать новую, параллельную экономику, пояснил URA.RU глава коммуникационной компании "Маркком", политолог Сергей Маркелов. — Высшим приоритетом для Путина и правительства становится импортозамещение. Мантурову нужно создать идеологию параллельной экономики. Иначе говоря — вторую экономику: одна (та, что есть) — экономика видимая, она показывает, что в России всё хорошо, вторая, которой и будет заниматься Мантуров, — невидимая. Она будет обеспечивать позитивную картинку первой», — объяснил эксперт. (URA.ru: "Путин начал создание новой экономической политики").
Однако в нынешних условиях «параллельная экономика» — чистая утопия. В силу нескольких философско-онтологических причин.
Первая. Задача неоиндустриализации требует работы на неё всего одного вице-премьера с подчинёнными ему ведомствами. Она по-прежнему не поставлена на высшем уровне явно и без умолчаний, на неё не мобилизованы и весь кабинет (вплоть до МИД и МО РФ), и Центробанк. Не существует и чёткого плана первой Пятилетки — по образцу не столько СССР, сколько Японии и Южной Кореи.
Вторая. Под индустриализацию потребна адекватная кредитно-финансовая система. Из бюджета страны всего не профинансировать. Но пока у руля Минфина — Силуанов, а ЦБ — Набиуллина (ярчайшие представители деиндустриализаторского монетаризма), они станут играть роль камня на дороге. Они объективно станут блокировать усилия по промышленному возрождению РФ. Наступит эффект «лебедя, рака и щуки» — приложения усилий подчас в противоположных направлениях.
Проведение подчас взаимоисключающих курсов в политике, назначение на высшие посты представителей совершенно враждебных направлений — давняя практика Кремля. Это приём игры на противоречиях, сидения на двух стульях, выстраивания аппаратных «сдержек-противовесов». Но в данном случае такая «раздвоенность сознания» грозит сорвать индустриализацию. То, что хорошо в политических интригах и аппаратных играх, совершенно губительно для индустриального возрождения страны.
Третья причина. Нынешняя структура правительства удручающе не приспособлена к задачам неоиндустриализации, Минпромторг РФ гораздо слабее Министерства внешней торговли и промышленности Японии, созданного в 1949 году (в организационном плане), нет нужного влияния на решения государства со стороны несырьевых промышленников, а общий курс государства РФ пока не поддерживает дело промышленного возрождения так же действенно, как в послевоенной Японии.
В РФ для неоиндустриализации нужно коренным образом менять налоговую систему, например. А против сего намертво стоит как раз финансово-экономический блок. Сами понимаете, чем это чревато.
В таких условиях никакой «параллельной экономики» не выйдет. Индустриализация требует не раздвоения, а целостности и синергии. Видимо, разнонаправленные усилия только до предела обострят конфликт между патриотами-индустриалами и прозападными компрадорами.
Онтология образа будущего и плана
Перечисленные Денисом Мантуровым направления усилий — всего лишь отражение некоей сиюминутности. Да, гидравлика, мосты и редукторы собственного производства, да, десять важных молекул в малотоннажной химии. Но что завтра? Ведь успех высокотехнологической индустриализации Шестого техноуклада прямо зависит от того, под какую Сверхцель она ведётся. Во имя создания какого будущего России? Ежели речь идёт о том, что РФ претендует на роль одного из полюсов в новом миропорядке, то как должен выглядеть оный полюс? Пока ответа на сей вопрос в официальном виде не существует, увы. Труды «изборцев» остаются общественной инициативой.
Вспомним, что СССР, начиная в 1928 году первую Пятилетку (свою индустриализацию), уже определился с образом грядущего. Могучая Красная держава, самодостаточная, строящая социализм у себя и обретающая свою сферу влияния. Держава мощная во всех отношениях, один из центров планетарной науки, отнюдь не сырьевой придаток, а страна, сделавшая ставку на передовое научно-техническое развитие. Имея видение грядущего, СССР и строил свои пятилетние планы ради его воплощения.
Возьмём страну также с сильным плановым началом — послевоенную Японию (хотя план в ней имел индикативный, рекомендательный характер, а не нормативно-приказной). Страна восходящего солнца поставила себе цель: войти в круг привилегированных и богатых стран Запада, взяв некий реванш за поражение во Второй мировой. И неявно японцы решили завоевать рынок победителя — США, используя его внутренние слабости. А для этого самураи воплотили фантастические произведения американцев 1930–1950-х годов и воспользовались опытом плановой экономики СССР, избежав её крайностей.
Как это у них получилось? В начале 80-х казалось, что Соединённые Штаты по структуре внешней торговли с Японией — просто колония для самураев. Об этом отлично рассказал Ли Якокка в "Карьере менеджера" (1984). Пользуясь либеральной открытостью рынка Америки, японцы-протекционисты нагло его захватили, выбив (руками правительства США) местных производителей. И хотя полностью Япония свою стратегию соблюсти не сумела, в 1991 году угодив в застой, теперь тем же путём (и теми же методами!) рынок Заатлантической имперской демократии завоёвывают китайцы.
КНР также, имея смешанную экономику с сильным плановым началом, имеет отчётливый образ будущего: заменить собою СССР, став первой державой мира с развитыми индустрией и финансами, при этом создав свою «имперскую зону» и подобрав самые сильные обломки проигравшего, рухнувшего Запада. Да и нас тоже, судя по всему.
А вот какую Россию строим мы? У власти ответа на сей вопрос нет. Труды и свои, и моих товарищей (образ Новой Руси — империи всего светлого, Руси-Ковчега) пересказывать не стану. Они, к сожалению, так и не стали официальной доктриной. А если её нет, то как вести новую индустриализацию и какие Пятилетки верстать? Ещё раз повторю: пятилетние планы с успехом использовали и несоциалистические страны. Помимо Японии — Южная Корея (с 1962). Пора бы и нам определиться со своим образом будущего и двинуться к конкретному проектированию. Тогда и деятельность Дениса Мантурова обретёт и смысл, и твёрдую почву под ногами.
Без метафизического начала, без Русской Мечты, мы обречены на провал. Максимум — сможем заткнуть дыры в текущем состоянии экономики.
Планирование и протекционизм
Если мы получаем внятный образ того, какой должна быть Россия как один из полюсов мира, можно переходить к конкретике планирования, причём однозначно забыв о бреде глобализации и «мирового рынка» со специализацией стран на чём-то немногом. Нет, только протекционизм и создание своего имперского блока, мира-экономики, что напрочь отрицает идеологию нынешних начальников макроэкономико-финансового сектора, отчётливо враждебных Мантурову и несырьевым промышленникам, делающим ставку прежде всего на внутренний сильный рынок.
Снова обратимся к японскому опыту. «Валютный контроль со стороны государства. Вся экспортная выручка поступала на государственный валютный счёт, и предприятиям выдавалась под строго оговорённые сделки — на покупку сырья для приоритетных отраслей, новейшего иностранного оборудования или лицензий. Во всех остальных случаях ответ был один: «Денег нет». То есть ставку сделали на импорт технологий, а не товаров. Зачем привозить товары, если стремительно перевооружившаяся промышленность скоро смогла производить их сама?» (Эксперт.ru: П. Бурмистров, "Чудо японское").
Это в корне противоречит политике Минфина, Минэкономразвития и ЦБ РФ. И как минимум, для воплощения планов Мантурова в жизнь необходимо поставить во главе Центробанка такого адепта новой индустриализации, как академик Сергей Глазьев (обеспечение дешёвых кредитов под проекты развития), заодно создав и правительство Развития из несырьевых промышленников-практиков, причём успешных. И вот тогда можно верстать первую Пятилетку.
И снова нам в помощь японский опыт. «В основе промышленной политики лежали пятилетние планы, — объясняет почётный профессор факультета экономики Токийского университета Хитоцубаси Ёсаки Нисимура. — Не директивные, как в СССР, а в качестве прогноза для бизнеса. Если бизнес им следует, то растёт быстрее. Потому что государство стимулирует определённые отрасли, снижая налоги, удешевляя кредиты, предлагая субсидии. Мыслить пятилетками правительство приучало и бизнес. Одной из главных специфических черт японской промышленной политики стал «закатный принцип». Правительство объявляет список приоритетных отраслей, куда вкладывает деньги, даёт субсидии и льготы. Но сразу же называет и срок, на который эта политика вводится, — как правило, те самые пять лет. И у бизнеса не так много времени, чтобы воспользоваться этими преимуществами, поэтому в названных отраслях начинается гонка инвесторов за право снять сливки».
При этом нам, как и японцам, необходимо подкрепить бюрократию государства участием в управлении (выработке решений и коррекции курса) тех самых отраслевых производителей.
«Раз в месяц в определённый день где-нибудь в шикарном ресторане на Гинзе собираются 25–30 старцев, чтобы поговорить о бизнесе. Это ежемесячные неформальные собрания президентов. На них встречаются главы компаний, входящих в кигё-сюдан, что-то вроде федерации крупнейших фирм и банков. Их связывает банк, стоящий в центре группы, и перекрёстное владение акциями. Из 20–30 фирм каждая владеет лишь 0,5–1% каждой, но группа в целом владеет очень приличным пакетом каждого из членов. Что это означает? Ваше поведение контролируется, но в случае необходимости вам будет оказана помощь».
В нашем случае необходимо «второе правительство» под эгидой главы государства: разделённый на отраслевые комитеты и президиум Совет индустриального развития, созданный из представителей общественных ассоциаций реального дела: машиностроителей, электронщиков, пищевиков, транспортников, научно-технических предпринимателей и т. д. В противном случае миссия Мантурова столкнётся с саботажем и с ошибками инертного бюрократического аппарата. Такой Совет должен проводить экспертизу решений правительства и ЦБ, а также и сам предлагать свои варианты действий государства и его нормативных актов. Но и этого мало. Необходимо суперведомство для проведения неоиндустриализации тогда, когда вместо прежней советской социалистической экономики у нас будет смешанная её модель, больше похожая на японскую послевоенную или китайскую пореформенную (после 1978-го).
Японцы смогли создать такой «мозг экономики» в 1949–2001 годы — Министерство внешней торговли и промышленности (МВТП). Хотя внешне Минпромторг РФ — его подобие, суть их пока очень различается. Знаете численность персонала Минпромторга РФ? Около 1200 человек.
А вот что такое МВТП Японии золотого века её экономического взлёта: «В МВТП занято около 12,5 тыс. сотрудников (1990). Для сравнения: в Министерстве сельского, лесного хозяйства и рыболовства — почти 60, в Министерстве финансов — 77, в Министерстве образования — 136,5 тыс. Министр имеет четырёх заместителей: по общим вопросам, по международным делам, двух заместителей в парламенте. Секретариат министра выполняет внутриминистерские административные функции и одновременно отвечает за статистическую службу, считающуюся по праву одной из лучших в мире. Министерство состоит из семи бюро. Головным является Бюро международной торговой политики. Оно разрабатывает и осуществляет мероприятия по государственному регулированию экономических связей Японии с её зарубежными партнёрами. Бюро занимается поиском оптимальных решений в случаях возникновения двусторонних или многосторонних торговых конфликтов и противоречий в контексте задач по расширению импорта, либерализации «закрытых» рынков товаров и капиталов, перемещения в другие страны отдельных производств и даже целых отраслей промышленности, сокращения торгового дисбаланса и т. п. Ежегодно бюро выпускает "Белую книгу по внешней торговле" — фундаментальный труд, содержащий официальную оценку состояния внешней торговли за истёкший год и предназначенный главным образом для деловых кругов внутри страны (выходит на японском языке).
В функции Бюро управления международной торговли входят планирование и реализация мероприятий в сфере экспортного контроля, решение проблем регулирования и либерализации импорта, валютно-финансовых вопросов, страхование экспорта и др. Бюро промышленной политики занимается вопросами структурной и инвестиционной политики, внутренней торговли и ценообразования. В компетенции бюро также проблемы деловой активности японских предпринимателей за рубежом и деятельность иностранных инвесторов в Японии. Все три бюро являются межотраслевыми. Они тесно взаимодействуют со специализированными отраслевыми бюро своего министерства: базисных отраслей промышленности, машиностроения и информатики, отраслей по производству потребительских товаров. Такая организация работы обеспечивает эффективный комплексный подход при принятии решений по вопросам экономической политики. Специфика МВТП также и в том, что оно координирует свою деятельность с другими государственными и неправительственными структурами.
Важным самостоятельным блоком МВТП являются управления функционального характера — природных ресурсов и энергетики, малых и средних предприятий, промышленной науки и техники, патентования. Интересы регионов при выработке общегосударственной политики и мер регулирования представляют региональные бюро и департаменты (в них занято более 2,8 тыс. служащих). Региональные подразделения МВТП координируют собственную деятельность с местными региональными органами, учитывают специфические условия каждого региона. Это направление деятельности МВТП имеет исключительно важное значение в решении задач территориального развития страны. МВТП располагает сетью институтов. В системе министерства 36 консультативных советов и комитетов, состоящих из независимых экспертов» (japantoday.ru).
Именно МВТП Японии смогло в начале 1950-х выбрать верные приоритеты развития: передовую металлургию, электронику, машиностроение и автопром. Следуя сим приоритетам, корпорации страны получали и налоговые льготы, и дешёвые кредиты, и субсидии государства, и протекционистские меры защиты их производства.
Как поведал Дионис Каптарь, занимавшийся историей успешного протекционизма, помимо МВТП, в Японии на её промышленное чудо работали Национальный институт прогнозных исследований, правительственное Управление экономического планирования, Управление по науке и технологиям, Минфин.
Позже опытом соседа воспользуется Южная Корея, запустившая свои пятилетки с 1962 года (военная диктатура Пака Чон Хи). И если в 1962–1966 годы она протекционистски развивала производство минеральных удобрений, угледобычу, производство цемента и лёгкую промышленность, энергетику, то дальше последовало продолжение. Нефтепереработка, строительство, чёрная металлургия. А потом — электроника, судостроение, автопром… И если в 1961 году сырьё составляло 48,3% в экспорте Республики Корея, то уже в 1976-м — всего 3%. (Дионис Каптарь. "Запрещённая экономика" — «Наше Завтра», 2022 г., с. 182).
Значит, как минимум нужно делать Минпромторг РФ таким же сильным (и главным в экономблоке правительства) ведомством, так же насыщая его специалистами из реального производственного бизнеса. И наверняка — вливая в него Минэкономразвития. Но и это ещё не всё! Достройка необходимого должна дойти буквально до всего.
Роль налогов и судов
А дальше, опираясь на сильный «мозг новой индустриализации» и на несырьевых промышленников, придётся радикальным образом менять очень многое.
Не только новую банковскую систему создавать (умеющую наладить внутренние инвестиции), но и налоги менять. Ибо нынешние подати таковы, что делают невозможным развитие технически сложного производства. Скажем, придётся отказаться от пресловутого «налогового манёвра» 2018 года — введение тяжёлого налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и больших акцизов на топливо при снижении пошлин на вывоз сырой нефти. Наоборот, нужны крайне высокие вывозные тарифы на сырьё — при отказе от НДПИ и акцизов на горючее. Ибо иначе разгоняются цены на топливо и энергетику! Точно так же нужно вводить налоговые льготы в выбранных приоритетных отраслях, чтобы туда шли капиталы. Нужно вводить налоговые вычеты: купил новое оборудование и технологии — вычти сие из облагаемой базы. А то в РФ нужно и тяжёлые подати отдать, и потом новые станки покупать. Крайне важно ввести порядок: реинвестировал свою прибыль в завод — не плати налога на прибыль! И точно так же придётся идти на решительную реформу: вводить драконовский прогрессивный налог на личные доходы с одновременным сбрасыванием фискального бремени с предприятий. Так, чтобы собственники, избегая высокого налога на личные доходы, вкладывали бы их в новые производства и рабочие места.
И так вплоть до ремонта наших институтов, до создания нормального состязательного суда, столь нужного для Русского экономического чуда. А в противном случае Денис Мантуров уподобится Дону Кихоту, бросившемуся на ветряные мельницы…