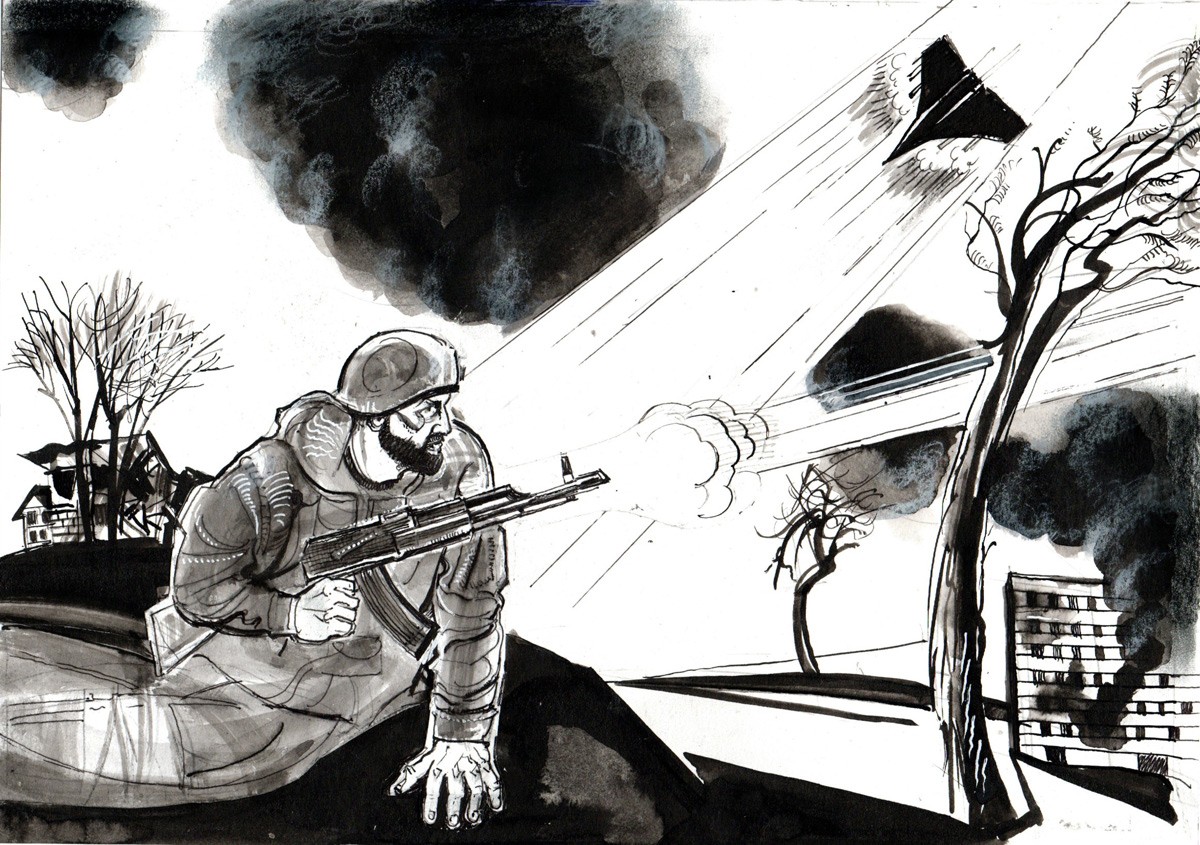Третий Рим
«Слово о Законе и Благодати» подготовило Русский народ к тому, чтобы встретить и принять свою историю. Символично, что произнесено оно было в момент (плюс-минус несколько лет) крупнейшей геополитической катастрофы христианского мира — Раскола 1054 года. Хотя никто тогда ещё не воспринимал очередную ссору христианского Востока и Запада как катастрофу, в духовном мире трагедия, несомненно, уже свершилась, и тревога была, что называется, разлита в воздухе эпохи.
Вначале почти незаметная, трещина скоро обратится в ров, затем в пропасть… Несколько веков христианский мир балансирует на грани вражды и попыток примирения, за неудачей которых следует быстрая развязка: уния, падение Константинополя, возрожденческое брожение, с которыми христианский мир, подожжённый Реформацией, точно горящее колесо, устремляется в бездну…
Вот это тревожное предчувствие катастрофы мы уже слышим как будто в «Слове». В котором, впрочем, нет ещё одного важнейшего русского кода (хотя имплицитно он уже присутствует). Но для того, чтобы он включился, катастрофа должна принять угрожающие формы…
С точки зрения русского сознания апогеем апостасии греков становится уния с Римом (1450), которую на Руси восприняли очень болезненно. И последовавшее скоро падение Константинополя под ударами османов (1453) было естественным образом осмыслено как небесная кара за духовное падение и знамение скорого Конца света.
На Руси же — это время обретения независимости. Стояние на Угре (1480) кладёт конец татарской власти, и так уже практически номинальной. А примерно с 1497 г. московский князь Иван III, женатый на византийской царевне Софье Палеолог, из дома последнего византийского императора, начинает использовать печать с двуглавым византийским орлом, заявляя тем самым право на наследование имперских инсигний. И отвечая императорам Священной Римской империи, которые (сперва Сигизмунд, а затем Фридрих III Габсбург) используют двуглавого орла в качестве своего имперского герба уже с 1442 года (т.е. ещё в преддверии унии).
Так, с первых шагов обретения независимости Русь начинает осознавать себя духовной наследницей Византии. И уже через каких‑то два десятка лет созревает до формулы «Третьего Рима». В посланиях старца Филофея 1523 и 1524 (Василию III) гг. эта формула имеет совершенно внятный эсхатологический смысл. В свете происходящих катастрофических событий: уния, падение Константинополя, наконец, проникновение на Русь «ереси жидовствующих» (1470–1504), по сути — дворцового заговора Московское княжество начинает восприниматься русской духовной элитой как последний хранитель истинной веры, как эсхатон (удерживающий).
Но если Москва — Третий Рим, то сколько бы она ни была мала (как мала была Византийская империя в конце своего существования) и далека географически от Первого и Второго Рима, смысл её существования обретает космическое значение. Так, сознание Третьего Рима уводит споры с Западом о праве на имперские регалии на второй план, на первый же выступает полнота ответственности за судьбу истиной веры. Отныне последним хранителем истиной веры в охваченном апостасией мире оказыватеся Москва. Гибель которой как последней цитадели истинной веры означает утрату последних смыслов существования мира. Всё это было столь свойственно русскому менталитету, что просто не могло не кристаллизовать мессианского сознания Руси. Которое ярко полыхнуло в царствование Ивана IV…
Мессианское сознание
Не будем много останавливаться на эпохе Иоанна Грозного. Скажем только, что спор вокруг его личности есть, в сущности, мессианский, мегаисторический, если позволительно так выразиться, спор: спор между традиционной христианской Европой и новым «турбулентным» миром «фундаментальной изменчивости», которую начинает Реформация Лютера. Так стоит ли удивляться эксцессам этой эпохи, вроде крестьянских войн в Германии, «апокалипсического царства» анабаптистов в Мюнстере, тоталитарной диктатуры Кальвина в Женеве (прообразе всех будущих революционных диктатур) и неоднозначного царствования Грозного, в котором, кажется, сходятся разом все (говоря словами Достоевского) русские бездны…
Это время включения мессианского Кода Руси, осознание своей мировой миссии, своего призвания: быть эсхатоном, духовно удерживающим мир от апокалипсической катастрофы. Это фантастическая ответственность! Крест, который никому, вероятно, кроме православной Руси, и не под силу было тогда поднять. Сознание Грозного (что прекрасно видно по его сочинениям) исполнено сознанием этой ответственности. И как ни оценивай эксцессы этой эпохи, нельзя понимать их иначе как апокалипсический срыв Русской души в её эсхатологической перспективе…
Тот же апокалипсический срыв (в активации того же «мессианского кода») являет и патриаршество Никона. Правда, теперь уже триггером выступает не царство, а священство — второй член симфонии. Соответственно, иначе видится и геополитическая перспектива. Третий Рим осмысливается теперь как Второй Иерусалим, а сохранение цитадели православия — как овладение Константинополем и восстановление Греческого царства, но теперь уже во главе с Москвой и духовным Новым Иерусалимом.
Увы, оба геополитических проекта ждёт катастрофа: царство Грозного кончается Смутой, патриаршество Никона — Расколом. Но обе попытки лишь обостряют эсхатологическое, а с ним — мессианское сознание Руси. И царствование Петра Великого становится естественным его разрешением.
Если Грозный обожествил миссию катехона-кесаря, а Никон — в той же мере — миссию патриарха, то Пётр Великий обожествил гений государства. Это было очень непривычно для Руси, но накал эсхатологического сознания меньше от этого не стал. Напротив! В Петре тут же признали Антихриста, а его реформам придали апокалипсический смысл. Мнение это имело, очевидно, некоторые основания. Но разве фигуры Грозного и Никона выглядят менее двусмысленно? И в том, и в другом, и в третьем уместились, как будто, и Бог и дьявол, Христос и Антихрист… Выходит Пётр. Его глаза сияют. Лик его ужасен, движенья быстры. Он прекрасен Он весь, как Божия гроза… — это можно сказать о каждом из них, и принять как великую плату за русскую Всечеловечность («широк человек, я бы сузил», — как позднее устами одного из своих героев скажет Достоевский). И эту способность русского человека вмещать в себя обе бездны можно, вероятно, также признать уникальной и назвать её, скажем, кодом русской бездны.
Также, вероятно, невозможно ни однозначно негативно, ни однозначно позитивно оценивать миссию Петра. «Мои мысли — не ваши мысли, и ваши пути — не Мои пути» (Ис. 55— 8). Последнее, отчасти, можно отнести и к судьбам народов, тем более — судьбе России, которая, как заметил фельдмаршал Миних (1683-1767), «управляется самим Господом Богом» (ибо, иначе непонятно, как она вообще до сих пор существует).
Прорубив «окно в Европу», Пётр действительно бросил Россию навстречу революции и сам стал «первым революционером на троне», что отлично понял уже Пушкин. Но ко времени начала царствования Петра стремительная модернизация без вестернизации едва ли уже была возможна. Концепция кружка Софьи — мягкого заимствования технологий при сохранении традиции — была бы прекрасной альтернативой революции Петра, если бы русский университет был создан хотя бы веком раньше и если бы старая Русь уже не прошла к тому времени через тяжкие надрывы манифестаций Грозного и Никона, которые и похоронили Русскую симфонию царства-священства.
Увы! К началу XVIII века эти пути были уже закрыты, а эти возможности — исчерпаны. Русская Симфония, пройдя сначала через узурпацию царства (Грозный), а затем священства (Никон), уже могла быть восстановлена в прежних формах. В то же время ход западной цивилизации по пути технического прогресса был уже неостановим. Так что дальнейшее промедление на этом пути означало бы для Руси (при отсталой армии и отстутствующем флоте) лишь скорую и верную гибель. Третий Рим отныне становился потенциально возможен лишь в формах Петербургской империи…
И эксцессы «ереси жидовствующих» (чуть было не пожравшей великокняжеский дом), и эксцессы Грозного, Смуты, Никона, Русского раскола, Петра были срывами мессианско-эсхатологического напряжения Русской души. Но через все эти бездны Провидение вело Русь к её, быть может, не исполненному ещё призванию. Быть эсхатоном, удерживающим, хранителем остатков человеческого (и — божественного замысла о человеке) в стремительно расчеловечивающемся мире — не такова ли её действительная роль в самом конце времён? Быть может, всё, через что проходила и чем становилась Русь в своём историческом бытии, было лишь подготовкой к этой, ещё ожидающей её миссии?
Код Всечеловека
От смысла истории обратимся теперь к судьбе человека — ещё одной центральной теме Древней Руси. Что такое человек с точки зрения традиционного сознания? И, в особености, с точки зрения христианства? Античность, в сущности, не знает человека как особую ноуменальную реальность. Несчастное племя эфемеров, смертных, живущее среди других, населяющих космос существ (богов, демонов, животных) ничем особым не выделяется из общего хода вещей. Для грека человек — лишь член полиса, для римлянина — гражданин Рима, то есть — частная функция целого. Да, «много есть чудес на свете, человек их всех чудесней», — но этот возглас трагика, исполненного поэтического вдохновения, — скорее, вопрошение небесам, отнюдь не отгадка. Ближе всего к осознанию человека как существа, трансцендирующего земной план бытия, подходит Платон, устремляя своё государство к преодолению энтропии и броску к божественному. Но человеческую личность, как нечто совершенно уникальное среди иных феноменов Космоса, впервые открывает христианство.
Творец Вселенной сходит на землю и принимает человеческую природу, чтобы спасти человека и приобщить его к природе божественной, — здесь является нечто, ещё неслыханное, Античность. Нечто, что сразу поднимает человека над всеми иными существами, делая его в каком‑то смысле почти равным Богу. Из существа, занимающего свою природную нишу среди иных, человек вдруг становится явлением уникальным, связующим звеном между миром физическим и духовным, утверждённым в центре мира и исполненным высокой цели: он — царь мира, призванный «возделать сад», гармонизировать материальный мир и привести его к Богу.
Мысль христианских философов приходит к поразительному выводу: человек есть, в сущности, Всечеловек. Он — не часть мира, он вообще не часть целого, он сам есть целое. Так что точнее было бы сказать, что мир является частью человека. Причём не большей его частью. Ведь человек в каком‑то смысле включает в себя и Бога. «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом» (св. Афанасий Великий), «Человек есть тварь, которой дано задание стать Богом» (св. Василий Великий) — вот бескомпромиссные формулы христианских философов, призванные раскрыть глубинную природу человечества.
«В него (человека), как в горнило, стекается всё, созданное Богом, и в нём из разных природ, как из разных звуков, слагается в единую гармонию», — говорит Максим Исповедник. Едва ли о симфонической природе и космизме Русской души можно сказать лучше, не правда ли? Но Максим идёт дальше и создаёт учение, согласно которому Бог творит весь духовный и физический мир, развёртывая его подобно нисходящей лестнице, у подножия которой ставит сотворённого Первочеловека. Которому даётся задание — взойти по этой лестнице, ступень за ступенью, сфера за сферой, собрав в себя всю сотворённую Вселенную, чтобы в конце концов принести ее Богу… Цель Абсолюта, таким образом, становится ясна: сотворить не просто новый мир, но, по сути, нового Бога, во всём равного (кроме, разумеется, нерождённости) Ему, — задача, поистине достойная великого Творца!
Но столь высокая цель не могла, разумеется, избежать испытания свободой и, соответственно, риском (изначально заложенным в творении). Так что потребовалась искупительная жертва Христа, чтобы спасти падшего человека и вернуть его на путь восхождения. Христос стал новым Адамом, а круг Его Церкви — горнилом, в котором идёт сквозь историю таинственный процесс творения новых богов.
Конечно, едва ли русское самосознание имело возможность усвоить учение св. Максима в необходимом богословском максимуме. Правдой является, скорее, другое: христианское сознание и Востока и Запада испугалось той правды о человеке, которую само же и открыло (точнее, божественного Откровения, открывшего ему эту правду). Христианский Восток, истерзанный шатаниями ересей, успокоился в строгих, но слишком скованных сухими догматами формулах «Точного изложения православной веры» Иоанна Дамаскина… Христианский Запад, испытавший некоторое ошеломление от откровений Максима в схолиях, переведённых Иоанном Скотом Эриугеной, отступил к «спасительному» рационализму схоластики. Впрочем, некоторые элементы системы Максима заметны ещё в «Божественной комедии» Данте… Таким образом, и на христианском Востоке, и на христианском Западе победила осторожность, которая завела средневековую мысль в философский тупик… «Опасно говорить человеку о его величиии. Ещё опасней говорить ему о его ничтожестве. Хуже всего умалчивать о том и другом», заметил Паскаль. Такова божественная притча, уложенная Христом в три самодостаточных слова: не гасите духа…
Отсюда берёт начало и византийский гуманизм (Михаил Пселл, Варлаам Калабрийский), возвращающий богословскую мысль в платонизм и язычество, который, с падением Константинополя, пустит корни на Западе и вызовет реакцию Возрождения и Реформации. (Варлаам Калабрийский, после поражения, нанесённого ему Григорием Паламой, вернулся на Запад, став учителем Франческо Петрарки, отца европейского Возрождения, и проложив путь на Запад другим византийским гуманистам: Мануилу Хрисолору, Виссариону Никейскому, Георгию Плифону.)
Так, осторожность христианской элиты привела к тому, к чему только и могла привести: утрате максимализма, духа дерзания, общему оскудению веры и угашению в мире света христианского Откровения. Возможность нового Ренессанса которых остаётся, по всей видимости, актуальной сегодня только в России. Мы, русские, и сегодня ощущаем себя «горнилом, в которое стекаются все звуки Вселенной», и едва ли есть ещё в мире народ, столь восприимчивый к этим звукам. В русском человеке всеобъемлющая всечеловечность Адама является в той силе и полноте, в какой это вообще возможно на земле. Так что всю историю Руси-России можно было бы представить как постепенное разворачивание этого откровения, постижения, разгадывания народом кода своей всечеловечности, своей симфонической души, своего призвания, своей миссии…
Вот мы открываем «Слово о полку Игореве» и погружаемся в симфоническую полифонию, играющую всеми красками мира, в центре которой находится человек, живущий трагедию бытия. Именно к нему, центральному герою, обращены все сущности и стихии окружающего Космоса, насквозь пронизанного солнечными энергиями. Человек обращается к стихиям и элементам Космоса (плач Ярославны), а Космос, на всех языках и планах мироздания, отвечает ему…
А вот три ангела Андрея Рублёва склонились над Чашей: миг, запечатлевший предвечный совет Троицы и решение о творении человека: «Сотворим человека по образу Нашему и подобию», — говорит Первый; но он падёт и потребуется его спасение, — отвечает Другой; и Третий даёт своё молчаливое согласие на подвиг…
Образами того же Предвечного Совета начинает свою огненную проповедь (одну из поразительнейших русских книг) протопоп Аввакум…
Мы идём сквозь века, обращаемся к Пушкину, Гоголю, Достоевскому, Толстому, Чайковскому и видим всё тот же полиморфизм, всё ту же всечеловечность, готовую объять всю Вселенную, всё ту же погружённость в величественную симфонию бытия, в которой небо и земля кружат в завораживающем хороводе…
И как немцы даже в своей великой музыке остаются философами и устроителями вселенной («Хорошо темперированный клавир» Баха — самая наглядная математическая модель сотворённого Богом Космоса), так каждый русский крестьянин в душе — поэт: «за чугунком картошки сразу Бог»… И не только каждый крестьянин, но и каждый русский гений — поэт: автор «Слова о законе и благодати», автор «Слова о полку Игореве» и безымянные творцы Летописных сводов, и Сергий Радонежский — тайнозритель Троицы, и Андрей Рублёв, слагающий икону «Троицы» в похвалу Сергию… И Иоанн Грозный, в своём неистовом стремлении удержать на острие исступлённой мысли Богочеловека и человекобога, и протопоп Аввакум со своим огненным Житием… И вся молчаливая потаённая Русь, несущая в себе видение-откровение града Китежа, Беловодья — от князя Владимира до Петра Великого — словно беременна творческим словом… Словом, способным сотворять миры. Таким творческим Словом, перекинувшим алмазный мост от старой к новой России стал Пушкин…
Из цикла очерков "Народ всемирной симфонии"
Публикация: "Изборский клуб", № 9 (85)