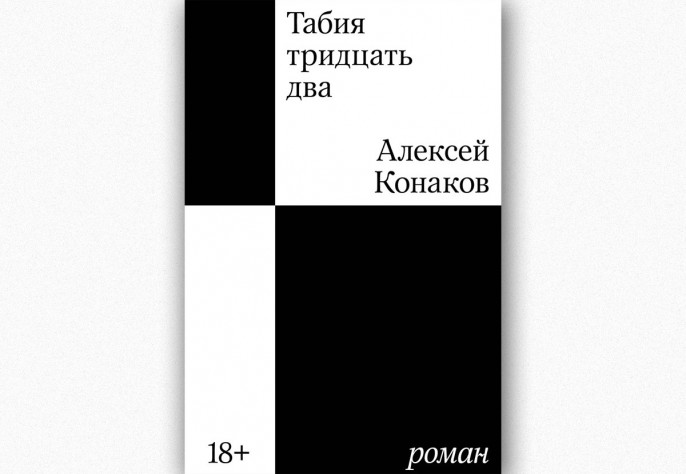Конаков Алексей. Табия тридцать два. — М. : Individuum, 2024. – 288 с.
В этом году в издательстве "Индивидуум" вышел провокационный роман "Табия тридцать два". Его автор — литературовед Алексей Конаков. Он известен прежде всего своими исследованиями литературы позднего СССР, в особенности периода правления Брежнева.
Дебютный роман Конакова написан в жанре антиутопии. Действие разворачивается в конце ХХI века, и романная Россия — это нечто среднее между Западной Германией, прошедшей оккупационную камнедробилку "глубинной денацификации" и вывернутой наизнанку, разгромленной крестоносцами Византией.
Всемогущий Запад подверг Россию пыткам и унижениям, но самое главное — лишил её культуры: теперь национальное сознание полностью заменено шахматами. Не существует в конаковской России ни литературы, ни искусства. Ведь русская литература замешана на имперской идеологии: "И когда людям рассказали о том, что российский империализм является политической производной от идей, пестуемых литераторами, решение проблемы нашлось почти сразу. Требовалось изгнать русскую литературу из русской жизни".
Главному герою романа, Кириллу Чимахину, предстоит узнать пугающую тайну о судьбе шахмат, скрываемую от всей страны: "Кирилл изучает историю шахмат в аспирантуре, влюбляется, ревнует и живёт жизнью вполне обыкновенного молодого человека — до тех пор, пока череда внезапных открытий не ставит под угрозу все его представления о мире".
Эти вводные, несмотря на всю их эпатажность, быстро исчезают из фокуса авторского внимания в пользу "шахматной" темы. И действительно, даже самые равнодушные к этой древней игре люди не смогут не восхититься её строгой красотой, прочитав хотя бы двадцать страниц романа, — настолько любовно и страстно Конаков описывает шахматные дебюты и законы: "Чатуранга — предшественница шахмат". И этим же вечером Лёвушка, уплетая гречку с луком, восторженно рассказывает Майе, что, оказывается, когда-то в Индии на доске-аштападе соревновались не два, а сразу четыре игрока, и их фигуры располагались по четырём углам, и в каждом комплекте было по четыре пешки и по одному слону, коню, ладье и королю. И ещё там бросали игральные кости, выбирая, кем именно ходить, и не существовало матовой идеи и так далее, а когда начали играть вдвоём, то соседние комплекты соединили — так и получилось восемь пешек, два коня, два слона, две ладьи на каждого; а второй король стал визирем (ферзём) и потому был слабее короля — ходил на одну клетку по диагонали, но память о его королевском прошлом сохранилась, и даже в Европе нападение на ферзя долгое время требовали объявлять специальным словом "гарде́" подобно тому, как нападение на короля объявляют словом "шах".
В этой связи хочется отметить авторскую манеру письма. Будучи филологом, Алексей Конаков плетёт ткань повествования мастерски и с удовольствием, а потому удовольствие получает и читатель. Текст усваивается с лёгкостью, несмотря на пространные монологи первой части романа.
На мой взгляд, "Табию" стоит воспринимать именно как жанровый эксперимент, в котором стилистика текста превалирует над его содержанием. Рассматривать этот странный роман как политическое высказывание однозначно не стоит, далее мы обсудим почему.
Невзирая на объёмность и красоту авторского текста, язык персонажей Конакова почти лишён стилистической дифференциации. Это связано с тем, что в романе принципиально не представлено никакой социальной неоднородности: Конаков описывает исключительно университетскую среду. В связи с этим, например, все без исключения герои романа свободно владеют латынью, щедро сдабривая свою речь крылатыми цитатами. Несмотря на это, именно трансформации русского языка посвящён роман "Табия тридцать два".
Язык и правда изменился, однако эти изменения формальны: вместо "О, господи", герои романа говорят — "О, Каисса", (богиня шахмат), вместо осмысленного восклицания герои произносят словосочетание "восклицательный знак". Проще говоря, изменения претерпела форма слов, но не их семантика. Я уважаю формалистический подход Конакова, однако характерное для антиутопического романа "извращение" смысла слов пошло бы на пользу монументальному авторскому замыслу (как это было, к примеру, в "новоязе" Оруэлла).
Далее хотелось бы отметить получившуюся детективную линию. Балансирующий на грани паранойи герой, умело созданная атмосфера и нетривиальная интрига — всё это динамизирует сюжет и вызывает желание дочитать роман до конца.
Отмечая достоинства концепции, языка и динамики детективной линии в "Табии тридцать два", всё же стоит сказать и о недостатках романа, главным из которых я считаю перегруженность, вызванную чрезмерным смешением литературных жанров, размывающим роман и заставляющим автора гнать читателя по верхам выстроенного им мира, не давая возможности этот мир понять и прочувствовать.
Описание новой России в романе производит впечатление виньетки. Новое положении страны с проигранной войной, гигантскими репарациями и столетним карантином воспринимается героями не только как норма жизни, но и как заслуженное наказание: "Глупости, Кирилл! За некорректные ходы наказывают, а Россия тогда совершила слишком много некорректных ходов (зачем надо было пугать весь мир термоядерными боеголовками?). Да, расплата оказалась тяжёлой, зато мы встали, наконец, на верный путь — путь свободы и процветания, мирного развития, добрососедских отношений".
Таким образом, из текста исчезает потенциально интересный срез литературной реальности, позволяющий нам ответить на огромное количество вопросов, а именно: что пришлось претерпеть людям? Что именно ужаснуло нацию настолько, что решение отказаться от собственной культуры далось ей с такой простотой, что уже через пятьдесят лет молодые люди даже не знают, что когда-то существовали Пушкин, Толстой, Достоевский?
Такой подход не характерен для антиутопического жанра.
Наоборот, фокус авторского внимания, как правило, направлен на подробное описание фантастической, незнакомой читателю реальности. Именно поэтому воспринимать роман как политическое высказывание не получается. Это роман не о России, не о войне, он о языке и о шахматах.
Думая о мире "Табии тридцать два", на ум приходит немножко извращённая цитата из Ахматовского "Реквиема", где ненужным привеском среди шахматных фигур болтается Россия.
Текст пестрит диалогами о шахматных этюдах. За счёт отсылок к Набокову, Стругацким и Умберто Эко подчёркивается интертекстуальность романа.
Концепция новой реальности, тесно связанная со сложными шахматными парадоксами, требует от автора серьёзной проработки; не говоря уже о любовной линии.
В романе персонаж Кирилла Чимахина получает сразу две такие линии. Первую любовь Кирилла зовут Майя. "Собственно, Майя (рассеянная, весёлая Майя) стала его первой женщиной, и тайны ars amandi, открытые ею ему, потрясли Кирилла.
Подобно тысячам тысяч других книжных мальчиков во все времена, Кирилл совершенно не мог понять, какие достоинства находила в нём — нелепом и нескладном провинциале — блестящая столичная девушка".
По всем законам жанра, любовная коллизия Майи и Кирилла образуется в момент появления угрозы для этой самой любви, или, если угодно, препятствия, коим становится молодой человек по имени Андрей Брянцев. Этот "любовный треугольник" представлен в книге живо и интересно в силу своей неоднозначности. Почти до самого финала читатель не может с уверенностью сказать, является ли ревность героя следствием его разыгравшейся фантазии или нет.
Вторую любовь Кирилла зовут Шуша. Шуша, в отличие от Майи, представляется не объектом влечения, но бестелесным мотыльком-проводником, двигающим Кирилла по сюжету романа тихо и благоговейно. "Шуша же вроде любит музыку, театры? Да, всё ещё образуется, жизнь ещё начнётся заново (а с Майей давно надо было развязаться)".
Шуша любит Кирилла, а большего знать и не нужно. В сущности, это отсылает нас к озвученной уже мною претензии, связанной с формальностью описанной реальности.
Своеобразие любовного конфликта Кирилла и Шуши сводится к функции, которую "она" выполняет для "него". Так, "она" может быть проводником важного для героя знакомства или носителем интересной для него информации, то есть вместилищем, сосудом, лишённым самости.
Таким образом, многоплановость романа повлияла на него парадоксально: с одной стороны, он выглядит перегруженным авторскими замыслами, а с другой — легковесным, проходящим сквозь читательское сознание мутным образным потоком.
Делая большую скидку на то, что современный литературный рынок не требует от писателя разве что танца с бубном, всё-таки стоит очертить основной романный недостаток: весь он видится чередой интересных, но антуражей. Эту книгу можно сравнить с интересной мутацией куриного яйца (counter-peristalsis contraction), с одним лишь отличием — до яркого желтка в романе Алексея Конакова никак не добраться. Кажется, что весь он состоит из блестящих скорлупок.