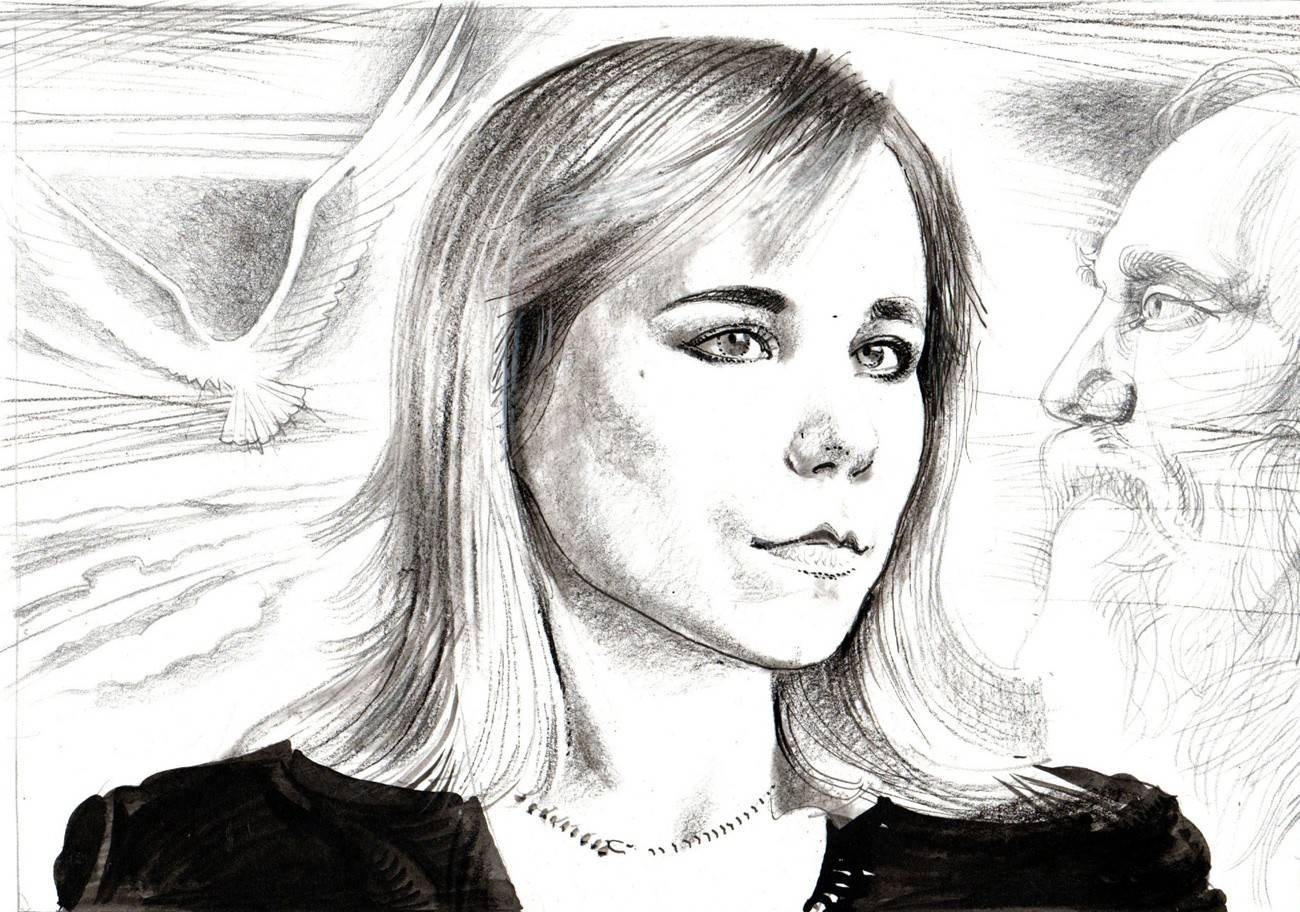Константин Паустовский – одна из главных икон русской интеллигенции (во всяком случае – был ею совсем еще недавно). В нем довольно наглядно представлены черты, которые в рутинных представлениях обывателя сопряжены с типом, которого, собственно, и принято именовать русским интеллигентом. Но репутация, которой пользуется его имя в читательской и, отчасти, писательской среде противоречит тому, как оценивал свое творчество он сам. В особенности – в итоговой биографической "Повести о жизни", которая, впрочем, может быть названа биографической лишь очень условно, и вот почему.
Паустовский в литературном отношении человек однозначно даровитый, но в человеческом – и не очень умный, и не прочь без причины солгать, и приукрасить то, что приукрашивать не следовало бы (обо всем этом, как мы увидим далее, с интонацией, претендующей на детскую непосредственность, он неоднократно свидетельствует). И, в придачу - человек себе на уме, весьма ловко использующий едва ли не любые жизненные обстоятельства в свою пользу. Во всяком случае, читая его многотомную "Повесть о жизни" – жизни во многом не такой, какой она в свое время представала перед его глазами, но такой, какой он хотел бы ее видеть теперь из своего безопасного и сытого далека, убеждаешься: все-таки, извечное и суетливое интеллигентское приспособленчество – вещь воистину не имеющая пределов. Но что делать: интеллигент – это не состояние души, это клинический диагноз (кстати же, как и аристократ, о чём можно будет прочесть далее). Тем более – если это выходец из дореволюционной провинциальной среды; а Киев, где он родился и вырос, был таковым и в предреволюционные, и в революционные, таким же оставался за все время советской власти, и уж тем более точно таким же остается и теперь.
«Я вышел из среды средней интеллигенции, - можно прочесть в первой книге тетралогии. - Мой отец был статистиком. Как большинство статистиков в те времена, отец был либералом». Звучит несколько пародийно, или это мне одному так кажется? В том же духе – продолжение:
«С раннего детства я слышал от отца и его друзей слова о свободе, неизбежности революции и обездоленном народе.
Все эти речи произносились главным образом в столовой за чаем».
Какова цена всем этим рвениям для блага родной страны и родного народа, о котором столько говориться в четырех довольно толстых томах, осознает, кажется, всего лишь один эпизодический персонаж, появление которого завершает вот какой эпизод, относящийся уже к юности повествователя.
«Мы часто слышали споры за чайным столом между отцом и дядей Колей, -вспоминает он. - Дядя Коля доказывал, что счастье зависит от просвещения. Отец считал, что счастье принесет революция. В споры вмешивался Павля. Он называл себя народником. Однажды его чуть не исключили из академии за речь на студенческой сходке. Володя Румянцев помалкивал, но потом говорил нам, мальчикам, что ни отец, ни дядя Коля, ни Павля совершенно ничего не понимают.
- А вы понимаете? – спрашивали мы его.
- Ни черта! – с удовольствием отвечал Володя. – И не желаю понимать. Люблю Россию – и баста!»
Т.е. – любит реальную, такой, какая она есть, а не головную, нереальную – такую, какая она представляется интеллигентскому сознанию, выразителем которого, а затем и направителем, так сказать, позже станет Паустовский.
Кстати, о цене интеллигентской любви к Родине, очертания которой в сознании ее обладателя имеют формы более желательные, нежели реальные. Ближе к финалу последней книги Паустовский выводит на сцену писателя Михаила Пришвина, знавшего и любившего Россию глубже, чем сто Паустовских, вместе взятых, который указывает повествователю на то, чем отличается настоящая любовь к России человека живущего одной жизнью с ней от любви сентиментального, поверхностно соприкасающегося с глубинной ее жизнью дачника, каковым всю жизнь был Паустовский, даже живя в самых глухих ее углах среди самых простых людей, которые, в свою очередь, насколько можно судить по его произведениям, оставались ему внутренне чуждыми; как, впрочем, и он им.
«Он очень сердился на меня за то, что я написал книгу «Мещерская сторона» и тем самым привлек к Мещерским лесам пристальное и губительное внимание людей с его неизбежными тяжкими последствиями – толпами туристов, истоптавшими вконец эти свежие некогда места, и бригадами людей практических, тотчас же начавших приспособлять этот край к извлечению из него наибольшей выгоды.
- Вы знаете, что вы наделали своими восторгами перед Мещерой! – сказал он мне с укором и осуждением, как неосторожному мальчику. – В вашей тихой Солотче уже строят сотни дач для жителей Рязани. Пойдите-ка теперь в луга и найдите хоть один цветущий шпорник. Поищите! Черта с два вы его найдете. Современники, может быть, и будут вам благодарны, а дети ваших детей вряд ли за это поклонятся».
Примеры сосредоточенности Паустовского на самом себе будут приведены далее, а покамест хотелось отметить еще две взаимосвязанных свойства повествователя. Первое: естественные человеческие движения, объяснимые, впрочем, не столько естественной приверженностью к общегуманистическим ценностям, сколько естественной и врожденной человечностью, - и неестественный пафос, которым подобные движения сопровождаются. Андрей Платонов в своей статье о Паустовском недаром отмечал ограниченность его литературных средств, при помощи которых он пытается выразить сложнейшие движения человеческой души: «в интонации…вы слышите лишь два инструмента – медную трубу и барабан, а этой музыки мало для описания даже самого примитивного существа… Паустовский очень часто пользуется для изображения человека в своих рассказах выдумкой. Выдумка, по нашему мнению, хуже, чем реалистические средства, хуже даже, чем чистая, сверкающая, бесплотная фантастика Грина». И второе: полнейшая неспособность, как можно догадываться по ряду признаков, применять эти движения и в литературе, и в жизни, а также неестественные мысли, возникающие при неоднократных попытках как-то обобщить происходящее. Иногда кажется, что и сами движения продиктованы не столько естественным человеческим чувством, но сознанием того, что именно вот так должно поступать, руководствуясь просветительским, так сказать, кодексом интеллигентного человека. В этом он до странности схож с барственным раздолбаем Стивой Облонским, который «получал и читал либеральную газету, не крайнюю, но того направления, которого держалось большинство, твердо держался тех взглядов на все предметы, каких держалось большинство и его газета, и изменял их, только когда большинство изменяло их, или, лучше сказать, не изменял их, а они сами в нем незаметно изменялись.
Степан Аркадьевич не избирал ни направления, ни взглядов, а эти направления и взгляды сами приходили к нему, точно так же, как он не выбирал формы шляпы или сюртука, а брал те, которые носят. А иметь взгляды ему, жившему в известном обществе, при потребности некоторой деятельности мысли, развивающейся обыкновенно в лета зрелости, было так же необходимо, как иметь шляпу. Если и была причина, почему он предпочитал либеральное направление консервативному, какого держались тоже многие из его круга, то это произошло не от того, чтоб он находил либеральное направление более разумным, но потому, что оно подходило ближе к его образу жизни. Либеральная партия говорила, что в России все скверно, и действительно, у Степана Аркадьича долгов было много, а денег решительно недоставало. Либеральная партия говорила, что брак есть отжившее учреждение и что необходимо перестроить его, и действительно, семейная жизнь доставляла мало удовольствия Степану Аркадьичу и принуждала его лгать и притворяться, что было так противно его натуре. Либеральная партия говорила, или, лучше, подразумевала, что религия есть только узда для варварской части населения, и действительно, Степан Аркадьич не мог вынести без боли в ногах даже короткого молебна и не мог понять, к чему все эти страшные и высокопарные слова о том свете, когда и на этом жить было бы очень весело. Вместе с этим Степану Аркадьичу, любившему веселую шутку, было приятно иногда озадачить смирного человека тем, что если уже гордиться породой, то не следует останавливаться на Рюрике и отрекаться от первого родоначальника — обезьяны».
Все перечисленное в толстовском фрагменте свойственно Паустовскому не меньше, чем Стиве: он любит хорошо пожить, готов на любой компромисс, быстро приспосабливается к стремительно меняющимся социальным ориентирам, подобно большинству интеллигентов средней руки с энтузиазмом уповает на прогресс и абсолютно темен в религиозных вопросах.
Забавны, хотя и малооригинальны его препирания с Творцом, претензии на какую-то высшую в сравнении с Божественной, человеческую истину.
«…Бог, придуманный людьми, вместо того, чтобы разобраться в кровавой и тяжелой путанице человеческого существования, все молчал и никак не вмешивался в течение жизни.
Существование смерти казалось мне издевательством . Я считал, что все живые существа, чувствующие себя бессмертными, не должны и не могут умирать.
«Кто смел, - думал я, - так подло обойтись с нами, с людьми, способными создать внутри себя мир чувств, мыслей и событий, настолько великолепный, что действительность порой кажется перед ним неуклюжей выдумкой?!» Сознание своего превосходства над природой доставляло мне страшную радость, хотя я знал, что у природы было в руках более сильное оружие, чем у меня, человека».
Мало того, что автобиографический повествователь не просто выражает недоверие Творцу, глупо, по его мнению, устроившего жизнь, он желал бы с Ним состязаться посредством своих выдумок. Какой же вариант предлагает он взамен имеющегося? А вот какой:
«Я твердо верил в бессмертие мысли, тысячи примеров этого теснились вокруг. И порой я сам считал себя властителем и создателем разнообразного собственного мира.
Я точно знал, что этот мир не подвержен тлению, которому подвержен я. Пока существует земля, этот мир будет жить. Хорошо, я умру непременно, мое полное исчезновение – вопрос малого времени, не больше. Но никогда не умрут Тристан и Изольда, сонеты Шекспира, "Порубка Левитана", затянутая сеткой дождя, и чеховская "Дама с собачкой". Никогда не умрут ночной беспредельный шум океана в стихах Бунина (заметьте, не сам шум океана, но его имитация в стихах) и слезы Наташи Ростовой». Заметим: не слеза малейшего из мира сего, не могущая пройти мимо внимания Бога, а, следовательно, остающаяся в вечности, волнует автора этих строк, но слеза описанного писателем литературного персонажа. Но какова участь этого бессмертия, оказывающего влияние на жизнь временную, по истечении этого времени, на фоне вечности настоящей? Приходит ли это в голову повествователю, не будем говорить – Паустовскому? Как бы не так.
«Потомки будут взволнованы этим так же, как сейчас взволнованы мы.
Чем чаще я думал так, тем скорее таяла горечь и тем крепче я верил, что, исчезнув из этого мира, я все же могу оставить на облике жизни хотя бы ничтожную, но вечную черту».
Т.е. – посредством деталей из жизни придуманной, являющейся отражением настоящей, повествователь надеется оставить след в жизни настоящей, чье течение совершенно, между прочим, не зависит от его желаний и хотений. Что же касается впечатлений, посредством этих деталей оказывающих влияние на восприятие будущих поколений, то не повлияет ли оно на реальную жизнь этих будущих поколений как некое искажающее реальную жизнь зеркало из комнаты смеха?
Искажающем не только сознание читателей, но и жизнь квази-творца. Об этом искажающем свойстве искусства в конце жизни задумался и сам Паустовский. В этом смысле его итоговую книгу с равным успехом можно было бы назвать и повестью о несостоявшейся, и повестью о погубленной, и повестью о вымышленной жизни.
Последнее, похоже, подошло бы более других. Паустовский не однажды упоминает, а иногда и весьма подробно анализирует свою склонность ко лжи, каждый раз, впрочем, выискивая для себя подходящие к случаю аргументы. Скажем, такой. «Я не мог сознаться в этом (в чрезмерной склонности к фантазиям), потому что искренне верил всему, что выдумывал, - без малейшей тени смещения признается он. - Это свойство стало причиной многих моих несчастий. Удивительнее всего, что за всю жизнь я не встретил ни одного человека, который хотел бы понять или хотя бы оправдать это свойство».
Но это в жизни. В литературе, где Паустовский давал себе в этом отношение полную волю, со стороны довольно большого количества почитателей упомянутое свойство находит и понимание, и оправдание – думается, в силу чрезмерной доверчивости читателей к позиции автора, чего при чтении его книг ни в коем случае допускать нельзя.
Конечно, наложение друг на друга реального и литературно-мемуарного я – случай сам по себе достаточно редкий. Но случай Паустовского, где эти два я лишь в редчайших случаях соприкасаются друг с другом, и то мельком – да еще и в повествовании, претендующем на автобиографичность - факт вообще исключительный. Можно даже сказать, что Паустовский, совершенно не обращающий внимание на свое реальное я, тем более не желающий выявить его в себе, даже и не ставит себе такой цели.
Приведу довольно курьезный факт игнорирования себя как реального человека вследствие привычки выдавать чаемое за действительное. Описывая довольно многочисленные, часто довольно невинные романы с несколькими женщинами, встречавшимися за время жизненного пути, а также в изобилии делясь с читателями своими переживаниями по этому поводу, повествователь ни словом не оговаривается об уже имеющихся женах - а был он женат, если я не ошибаюсь, трижды, причем с первой супругой венчался еще до революции, а развелся только в середине тридцатых. В книге же отсутствует не только факт венчания или эпизоды жизни с ней – на всем протяжении нет даже намеков на ее существование – очевидно потому, что столь прозаический факт мог бы снизить образ романтичного, вечно в кого-то или даже во что-то влюбленного странника, каковым желательно ему остаться в памяти читателя, который о наличии жен может узнать только из воспоминаний о нем, но не из автобиографического повествования, где, может быть, и есть хитро скомпонованные эпизоды из биографии, но нет ни ее реального обладателя, ни реальных людей, ни самой правды жизни. «Меня в жизни привлекали больше всего такие случаи, обстоятельства и люди, которые оставляли ощущение небылицы», - поначалу не без гордости признается наш герой. Но когда осознание того, что роковая привязанность к приукрашиванию как главное жизненное свойство пишущего переносится в область любимой им литературы – тогда уж Паустовский, преодолевая себя, вынужден делиться с читателем своими переживаниями о последствиях такого переноса. «Каждый раз, - отмечает он в одной из глав последней части книги, - я садился писать рассказ с твердым желанием быть беспощадным к себе и не уходить от подлинности в мир искусственных вещей. Но каждый раз какая-то слепая внутренняя инерция понуждала меня идти по линии наименьшего сопротивления, брать внешний сюжет и уступать своей склонности к необычайным положениям, людям и обстановке». И – получались вещи, по признанию самого Паустовского, «хорошо написанные, но внутри пустые, как съеденное червями яблоко. Пустые потому, что они выдуманы или, вернее, придуманы, что от живой жизни в них присутствует только несколько крох, а все остальное набрано отовсюду и наспех связано непрочными нитями». Правда, Паустовский отделяет свои ранние вещи от вещей поздних, где якобы в более или менее присутствует правда жизни, но лично я их разделить не могу. Во всяком случае, его беллетристические мемуары лишний раз подтверждают: в них нет не только правды, но даже намеков на нее.
Для человека, подобному Паустовскому, не так, как следовало, прожившему свою жизнь, жизнь во лжи самому себе, ее закат часто знаменуется некой непонятной ему самому тревогой. Посещала она и Паустовского. Об этом мы узнаем из не вошедшей в "Повесть о жизни" заключительной главы, которая так и называется – "Последняя". В ней Паустовский пытается, наконец, предстать искренним и перед самим собой и перед своим читателем, найти правильные критерии для осмысления своей жизни и творчества.
Прочтём эту главу:
«На дне каждых суток остается небольшой осадок золота. Я старался на протяжении этой книги собрать его. Но золота осталось не много, и жизнь представляется мне теперь, когда удалось кое-как вспомнить ее, цепью грубых и утомительных ошибок. В них виноват один только я. Я не умел жить, любить, даже работать. Я растратил свой талант на бесплодных выдумках, пытался втиснуть их в жизнь, но из этого ничего не получилось, кроме мучений и обмана. Этим я оттолкнул от себя прекрасных людей, которые могли бы мне дать много счастья.
Сознание вины перед другими легло на меня всей своей страшной тяжестью.
На примере моей жизни можно проверить тот простой закон, что выходить из границ реального опасно и нелепо.
Если бы можно было, я назвал бы свою книгу "Предостережение". Предостережением для всех, кто живёт в своём вымышленном мире и не считается с суровой действительностью.
Что говорить о сожалении? Оно разрывает сердце, но оно бесплодно, и ничего уже нельзя исправить – жизнь идет к своему концу. Поэтому я кончаю эту книгу небольшой просьбой к тем, кого я любил и кому причинил столько зла, - если время действительно очищает наше нечистое прошлое, снимает грязь и страдание, то пусть оно вызовет в их памяти и меня, пусть выберет то нужное, хорошее, что было во мне.
Пусть положат эти крупицы на одну чашу весов. На другой будет лежать горький груз заблуждений. И, может быть, случиться маленькое чудо, крупицы добра и правды перетянут, и можно будет сказать: простим тому, потому что не он один не смог справиться с жизнью, не он один не ведал, что творит.
Мне хочется хотя бы маленькой, но светлой памяти о себе. Такой же слабой, как мимолетная улыбка.
Улыбнитесь же мне напоследок. Я приму эту улыбку как величайший и незаслуженный дар и унесу ее с собой в тот непонятный мир, где нет «ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная».
Странное впечатление оставляют эти размышления, где первоначальное покаянное настроение постепенно растворяется в густых, размывающих все предыдущее и столь привычных для автора литературных соплях. Но и такое признание для Паустовского – большой шаг вперед. Что содействовало этому? Может быть, непосредственные впечатления о жизни, полученные в годы Великой Отечественной войны (глава обозначена 1945 годом) и не дававшие поводов к привычным для Паустовского сентиментальным всхлипам. Это соображение, кстати, может объяснить факт последующего изъятия этой главы из текста, когда ощущение некоего экзистенциального края, к которому подходит человек, заменились более привычными для автора ощущениями. Чего стоит одна улыбка, которую он намерен забрать в непонятный для него, упомянутый явно для красного словца мир, где нет «ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная». Представлял ли он хоть в какой-то мере, чем будет отмечена для него эта новая жизнь в мире пакибытия?
Заметим, что даже это, в меру искреннее, но не лишенное самолюбования покаяние обращено не к Богу, а к человечеству в лице близких оратору людей. Не знаю, нашло ли оно с их стороны должный отклик; лично у меня очень большое сомнение, что хоть кто-то из них приходил помолиться о нём в церковь, хотя вздыхали о нем, как о хорошем человеке, которого нет рядом и с которым больше никогда не свидеться, наверняка, многие, - по той простой причине, что загробный мир, в котором и происходят свидания живых с живыми, для них, как и для Паустовского, несмотря на заключительные слова "Последней" главы – не более, чем фигура речи.