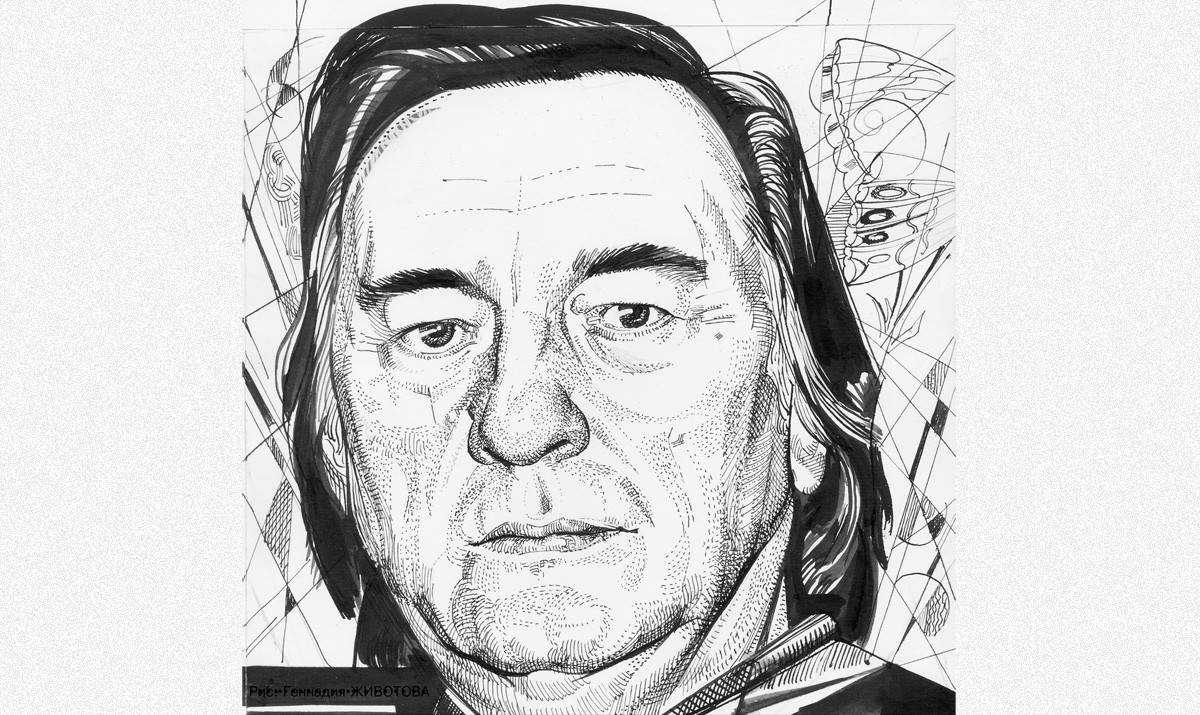По-моему, интервьюер не совсем корректно задал вопрос, дезориентируя читателей. Время такое, тревожное, разные военные слова на слуху. Но интервью-то не о военном времени. Да, академик Глазьев давно говорил о «мобилизационной экономике», но речь шла не о перестройке нашей экономики в военное время, а о её реформе для лучшей эффективности в мирное. Просто слово «реформа» уж очень у нас скомпрометировано.
Ведь что такое «настоящая» мобилизация? Это не только призыв мужского населения в армию, это касается всех ресурсов. Мой старший брат рассказывал мне, как в 1941 году по дороге к станции вели мобилизованных в районе лошадей. Он видел это ребенком. Целый день они шли длинной вереницей, десятками, повод каждой лошади был привязан к хвосту предыдущей, переднюю вёл коновод-колхозник. Эти лошади вытянули на себе большую часть грузов в начале войны, и, увы, вряд ли кто из них пережил первый, самый тяжелый её год. А как же сельское хозяйство без конной тяги, без грузовиков, а главное – без мужчин? А вот так, армии было нужнее.
Мобилизация экономики – это перераспределение ресурсов на выполнение основных задач, стоящих перед страной, обычно в случае войны или еще какого экстраординарного события. Что значит «перераспределение?» Ну, например, приходится отказываться от текущего ремонта зданий и жилого фонда, сокращать производство товаров народного потребления, особенно использующих ценные военные материалы, и так далее. И в зависимости от серьёзности задачи глубина перераспределения может быть разной. Например, во время Второй Мировой войны у нас было так – «всё для фронта, всё для Победы!», а в США нельзя было купить пули для развлекательной стрельбы – весь материал уходил на военное производство. Но и только.
Сейчас-то речь о другом, о рациональной перестройке экономики, причём без потерь для жизненного уровня, хотя это тоже очень серьёзная задача. А требуются от этой перестройки инвестиции в производство. Казалось бы, это можно сделать, да только это не делается уже 30+ лет, хотя средства есть.
Академик Глазьев говорит о принципиальной возможности мобилизационной экономики с обширным рыночным инструментарием. С этим трудно спорить, поскольку даже и советская экономика в Великую Отечественную войну вовсю использовала рыночные принципы (об этом много написано в классической работе Николая Вознесенского "Военная экономика СССР в период Отечественной войны"). Например, параллельно действовали три системы ценообразования на продовольствие и некоторые товары народного потребления – в системе государственной торговли, в системе государственной коммерческой торговли и на колхозных рынках. Да и вообще, пока в обществе существуют деньги – существует в той или иной степени и рынок.
Рыночные механизмы хороши тем, что они реально работают на удовлетворение потребностей потребителя. Если предприниматель произвел то, что не нужно людям, или с чрезмерными издержками, и, соответственно, слишком высокой ценой, то это производство не окупится, и предприниматель разорится. Поэтому хочешь – не хочешь, а выпускай то, что людям надо. Об этом писалось тысячи раз, но тут есть и не решённые до сих пор проблемы.
Главная же проблема состоит в том, что предприниматель не может действовать в убыток себе в принципе, какие бы важные задачи ни ставили интересы общества. Например, задача импортозамещения – нашему обществу в целях безопасности надо иметь некоторые производства на нашей территории. Но для предпринимателя они невыгодны (это бывает сплошь и рядом), ему выгодней торговать уже готовой продукцией. Так бывает не только у нас: например, некоторыми видами электронной продукции занимается Тайвань и является монополистом. Во многих странах пытались заниматься некоторыми процессорами или кристаллами для светодиодов, и оказалось невыгодно, конкуренция с Тайванем ни у кого не удалась. И мы, в частности, сейчас оказались без кристаллов для светодиодов некоторых дефицитных цветов, хотя сами светодиоды собирать умеем. И ни за какие деньги не можем их купить – ни за доллары, ни за евро. А вот за юани, возможно, купим. Но это неточно.
Значит, чтобы предприниматель делал то, что нужно государству, надо ему приплачивать, причем приплачивать столько, чтобы ему было выгодно преследовать и государственный интерес кроме своего собственного. Легко сказать – трудно сделать. Сколько уже было примеров, когда государство шло на большие траты, но траты эти использовались уполномоченными корпорациями в своих целях – и в дефолт 1998 года, и в кризис 2008-го. Были такие случаи и в промышленной сфере. Как добиться того, чтобы связка государство (в лице чиновника) – предприниматель действовала в пользу промышленного развития, а не только на извлечение прибыли любым способом? К этому существует много препятствий.
Академик Глазьев говорит об одном из них, может быть, самом важном – об ответственности. Предприниматель принимает решения «за свой счёт», а чиновник – за счет государства. И если это неэффективное решение, то максимум – чиновник рискует карьерой и в самом крайнем случае – зарплатой, а больше с него и не взять (мы говорим не о криминальной ситуации). И когда речь идет о взаимодействии государства и предпринимателя, то ситуация особенно острая: а ну как в результате предприниматель в большом выигрыше, а государство в убытках, а причиной тому роспись одного чиновника, и как отличить некомпетентность от коррупции? Эта проблема не решена. Мы слышали о временах, когда она решалась очень жестоким способом, но не надо их идеализировать, на самом деле и тогда были злоупотребления.
Честно говоря, о некоторых вещах писать уже откровенно скучно, и академик Глазьев откровенно говорит, почему. Речь о качестве государственного управления. Когда государство одной рукой пытается создать гражданское самолетостроение, а другой субсидирует импорт иностранных самолетов (которые сейчас непонятно как обслуживать, кстати) – ну о чём ещё можно говорить? И это не единичный казус; полно примеров, когда облегчается импорт продукции, конкурирующей с отечественной, критически важной.
И ведь главное: эта проблема как-то преодолевается и в Китае, и в некоторых других странах, и успешно. Так вот как, в чём принципиальное отличие тамошних рыночных механизмов от нашенских? А вот это и не говорится, или, может быть, интервьюер не спросил? Точнее, говорится, но уж очень общо, что вот нужно планирование с ответственностью и подчинение денежно-кредитной политики целям экономического роста. Нужно, конечно, только кем и как? И кому?
У меня сложилось впечатление, что у нас, сознательно или нет, исходят из того, что реформирование экономики должно производиться существующими рыночными механизмами вроде как, чтобы никого не обидеть. Но ведь, если эти механизмы работают хорошо, то зачем реформа? А если они не работают на достижение поставленных целей, то так ли они нужны? Наверное, нужны тоже рыночные, но другие. Наверное, коммерческие банки должны быть поставлены в определенные рамки, чтобы их деятельность служила не только извлечению прибыли любым способом.
Много лет наша экономика работала, по сути, на создание «валютных» резервов. Тут потому кавычки, что валюты-то бывают разные и резервы тоже. И дело даже не в том, что эти наши «резервы» остались сейчас в распоряжении наших врагов. Вот представьте себе, если бы в 1941 год наша страна пришла без золотого запаса, но с резервами германских рейхсмарок, хотя бы и в подвалах Госбанка. И что тогда? Поэтому предложения академика Глазьева по части управления валютным курсом, возможно, правильные, но речь-то идёт о взаимодействии рубля с долларом и евро. А мы ничего не можем купить ни на доллары, ни на евро, и даже русское золото наши партнеры пытаются ограничить в использовании.
Не секрет, что правительство у нас озабочено соблюдением интересов наших экспортёров (отсюда и нешуточные терзания на тему, как бы предотвратить усиление рубля, не дай бог вырастут, внутренние издержки наших сырьевиков). Но надо ведь думать о главном, деньги – это лишь посредники при обмене товара на товар, они только тогда имеют ценность, когда на них можно что-то купить. Так вот надо определиться: что и у кого мы по большому счету покупаем? Тогда и будет ясно, а какая валюта нам в действительности нужна?
Вот сейчас действует система «торговли газом за рубли». Это психологически и пропагандистски удачный ход, но ведь, по сути, мы продолжаем получать за наше сырьё те же самые евро, которые ещё неизвестно, примет ли кто-то из поставщиков товаров.
Скорее всего, нам нужна система, при которой мы будем продавать наши товары за индийские рупии, иранские реалы, китайские юани, южнокорейские воны, и это будет не нашей проблемой, где европейцы их возьмут. Ведь то, что мы потребляем, мы получаем по сути не из Европы, Европа чаще всего просто посредник. Извините, но кофе, чай и хлопок в Европе не растут. И смартфоны.