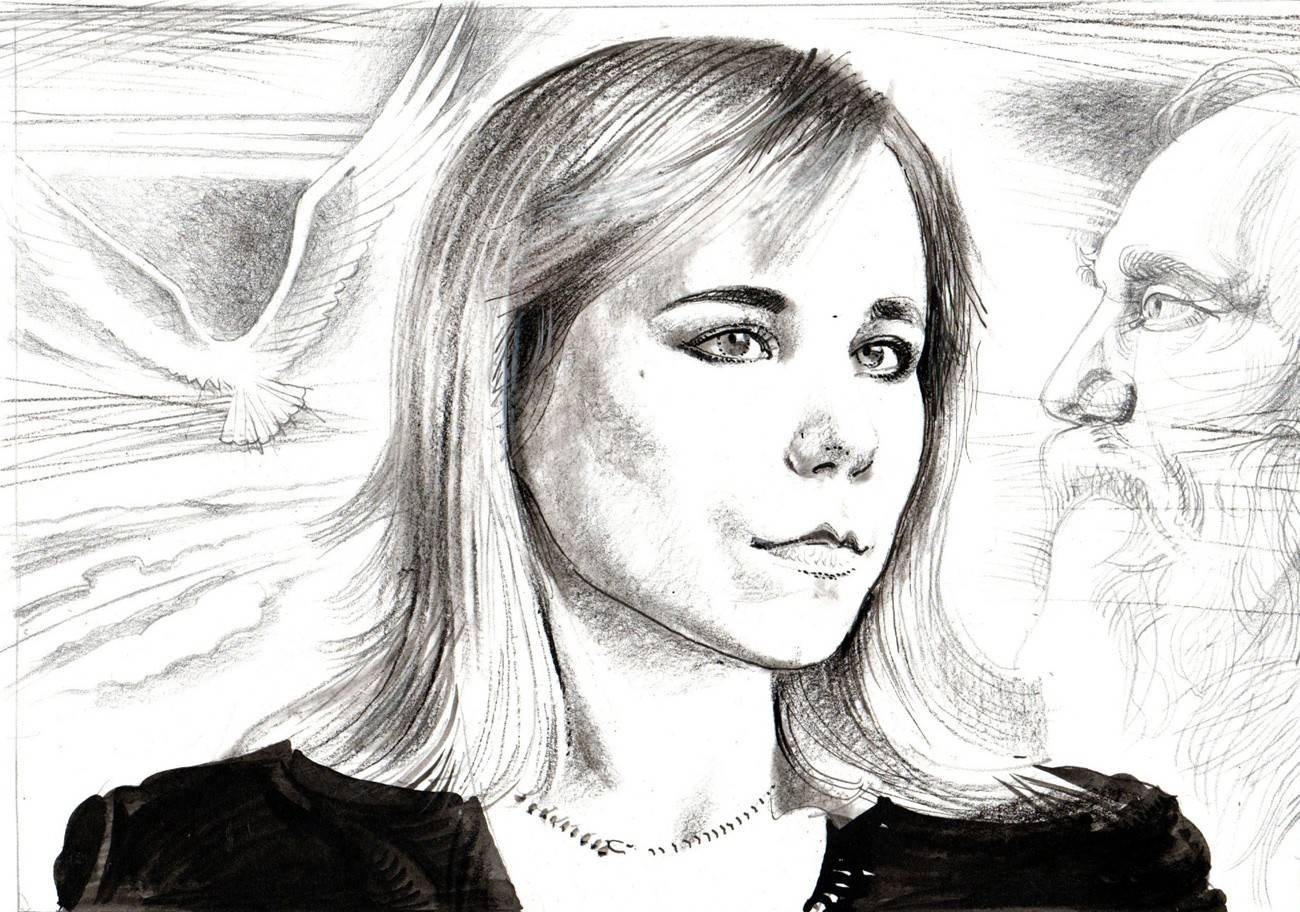В повести Льва Толстого «Отец Сергий» наиболее наглядно, пожалуй, отразилась энергетика его заблуждений (определение В. Шкловского), определившая несколько позже его еретическую религиозную доктрину, теоретических положений которой я, впрочем, касаться не буду – я только попытаюсь вычислить подступы к ней на основе текста повести, читая ее так, как читал бы обыкновенный православный верующий, не ведающий упомянутых доктрин ни сном, что называется, ни духом. Впрочем, духом как раз и долженствующий почувствовать их несостоятельность.
Оставим в стороне видимые каждому, кто хоть мало-мальски знаком с бытовой стороной монашества моменты попросту нелепые, приписываемые автором русскому монашеству за счет духовного несовершенства, свидетельствующих о духовных изъянах в этой области Толстого, имеющего о предмете изображения самые приблизительные представления. Чего нельзя сказать о моментах чисто психологических, что всегда было сильной стороной творчества яснополянского графа-литератора.
Прежде всего, сказанное касается поступков князя-кавалергарда, будущего монаха (монаха, понятно, не настоящего, но в трактовке Толстого).
Эти поступки кажутся (да и не кажутся, но являются таковыми на самом деле, что не забывает отмечать очень чуткий в этой области Толстой) – импульсивными, инициированными движениями крови, причем не только в светской жизни, но и в монашестве. И если учесть, что монашество принимается героем несознательно, необдуманно, да и после принятия его он живет в нем, принуждая себя к этому жительству – в дальнейших его действиях уже после снятия с себя сана можно найти некую логику, диктуемую, прежде всего, чувством противоречия общепринятым образцам.
Отметим еще одно свойство – поддаваться очарованию различных людей, а также, что более важно – желание вызывать похвалы и удивление окружающих. В первой половине повествования это свойство направлено прежде всего на царя и невесту; ближе к концу повести оно подавляется – и опять-таки – волевым усилием (что слишком мало) или даже истребляется во внесших своих формах (что тоже неважно, ибо самолюбие бывшего князя находит на этом этапе выход в самолюбование смирением). Да и это – как сказать, ибо тоже всегда свойственную герою преувеличенность жестов Толстой и тут за ним оставляет – и не только при жизни его в монастыре, но и после выхода из него – в частности в очень важной для идеологической структуры сцене посещения Пашеньки и разговора с ней, после которых, по Толстому, герой обретает новые, уже однозначно верные ориентиры.
Но и до того таких жестов более чем достаточно. Перечислим некоторые, придерживаясь хронологической, так сказать, последовательности. Начнем с уже упомянутой гвардейской юности, и даже с времени более раннего.
«Работа с самого его детства, - считает нужным отметить Толстой, - шла, по-видимому, самая разнообразная, но, в сущности, все одна и та же , состоящая в том, чтобы во всех делах, представлявшихся ему на пути, достигать совершенства и успеха, вызывающего похвалы и удивление людей. (Удивление это, замечу в скобках, определит его поступление в монашество). Было ли это ученье, науки, он брался за них и работал до тех пор, пока его хвалили и ставили в пример другим. Добившись одного, он брался за другое». Далее идет перечисление успехов героя, которых он добивается в разных областях посредством отмеченного мною волевого принципа, который позже попытается применить к монашескому деланию и который, естественно, в данной области себя не оправдает, но напротив – посодействует поражению экспериментатора.
Этот же принцип воли является главенствующим и в более интимных областях. «Кроме общего призвания жизни, которое состояло в служении царю и отечеству, - читаем мы далее, - у него всегда была поставлена какая-нибудь цель (отказ от которой, добавляю от себя, грозит непоправимыми последствиями, что видно из продолжения толстовского предложения), и, как бы ничтожна она не была, он отдавался ей весь и жил только для нее до тех пор, пока не достигал ее».
Возникает естественный вопрос – а что же дальше? Толстой дает на него очень убедительный ответ, о котором далее, впрочем, почему-то забывает:
«Но как только он достигал назначенной цели, так другая тотчас же вырастала в его сознании и сменяла прежнюю. Это-то стремление отличиться и, для того, чтобы отличиться, достигнуть поставленной цели, наполняло жизнь».
Нетрудно заметить изначальную детерминированность этого бесконечного ряда, в котором отсутствует высшая точка – даже в потенции. Что, например, останется делать герою в случае осознания, что и какая-то из поставленных целей окажется выше достигаемости (или даже – досягаемости)? Нетрудно догадаться – чем; да я об этом уже и говорил. Есть намек на это и у Толстого, заканчивающего приведенный абзац следующим замечанием: «это положение (достигнутых раннее успехов) не удовлетворяло его. Он привык быть первым, а в этом деле (имеется ввиду – великосветская жизнь) он далеко не был им».
Оценим перспективу дальнейшего развития этого пассажа: если герою не удается почувствовать себя первым на великосветском поприще, стоит ли ему ожидать чаемого первенства на поприще гораздо более сложном – на поприще монашеского делания? Впрочем, и в этом вопросе Толстой остается верен себе. Читаем: «Вообще на седьмой год жизни в монастыре Сергию стало скучно. Все то, чуму надо было учиться, все то, чего надо было достигнуть, - он достиг, и больше делать было нечего».
Согласитесь, слишком малый срок для совершенства отводит Толстой своему герою. Впрочем, если учесть, что под этим – все подразумевается деятельность на внешнем уровне, то да. Но дело еще в том, насколько укоренен герой в этом внешнем.
Добавим к этому и прямое указание Толстого на причины, подтолкнувшие Касатского ко вступление на монашеский путь после разрыва с невестой; высказать их он доверяет сестре героя. «Она понимала, что он стал монахом, чтобы стать выше тех, которые хотели показать ему, что они стоят выше его. И она понимала его верно. Поступая в монахи, он показывал, что презирает все то, что казалось столь важным другим и ему самому в то время, как он служил, и становился на новую высоту, с которой он мог сверху вниз смотреть на тех людей, которым прежде он завидовал».
Перечисленное Толстым – вполне в духе его героя. А вот следующее далее – скорее в духе его самого. «Но не одно это чувство, как думала сестра его Варенька, руководило им. В нем было и другое, истинно религиозное чувство, которого не знала Варенька, которое, переплетаясь с чувством гордости и желанием первенства, руководило им. Разочарование в невесте, которую он представлял таким ангелом и оскорбление было так сильно, что привело его к отчаянию, а отчаяние куда? – к Богу, к вере детской, которая никогда не нарушалась в нем».
В последней фразе – по меньшей мере две не замечаемых Толстым лжи. Первая и главная – это приписывание герою детской простодушной веры, которой мы ни разу в нем не увидим на протяжении всего дальнейшего повествования; напротив – вера героя – путана, нерадостна, тосклива. Второе, дополняющее первое – то, что к монашеству герой с самого начала прилагает свои собственные мерки, не зная его – им заранее очаровывается; поэтому тем более фальшива фраза Толстого о начале пути к Богу, Который, как мы увидим в дальнейшем, его героя вообще не интересует. Глубины собственной личности, неясный смысл жизни – да, но не Бог.
Уже здесь намечена некая двойственность, даже фальшь, желательная автору под видом некой истины, которая, по мере продвижения повествования к финалу, будет возрастать (не отсюда ли подчеркнутая открытость финала).
Неудивительно поэтому, что с поступлением в монастырь отчасти подмеченные автором и совсем не замечаемые героем прелестные состояния только усугубляются. «Кроме того чувства сознания своего превосходства над другими, которое испытывал Касатский в монастыре, - отмечает далее Толстой, - Касатский так же, как и во всех делах, которые он делал, и в монастыре находил радость (поставим здесь знак вопроса совокупно с восклицательным) в достижении наибольшего как внешнего, так и внутреннего совершенства. Как в полку он был не только безукоризненным офицером, но таким, который делал больше того, что требовалось (отметим также и это настораживающее – больше того) и расширял рамки совершенства (слово неуместное применительно и к Касатскому послушнику, и к Касатскому-монаху, и тем более - к Касатскому-лжестарцу, в каковых ипостасях он поэтапно предстает перед читателем), так и монахом он старался быть совершенным: трудящимся всегда, воздержанным, смиренным, кротким, чистым не только на деле, но и в мыслях, и послушным. В особенности последнее качество, или совершенство, облегчало ему жизнь». Оговорка – совершенство, как мы увидим далее, не случайно, а потому даже и не является оговоркой – герой действительно так считает.
Упускаю дальнейший, довольно объемистый фрагмент текста, где Толстой пытается совместить описанные в святоотеческой литературе состояния, присущие монашествующим, и, соответственно, им самим оттуда вычитанным на чисто головном уровне со своими собственными на этот счет вымыслами, поскольку они могут только вызвать раздражение у сведущего на этот счет читателя. Замечу лишь, что все эти характеристики касаются внешнего делания, которое в монашестве играет, конечно, определенную роль, однако ж не главную. Внутри герой продолжает хранить (я бы даже сказал – бережно хранить) все те черты характера, которыми отличался и в миру. Отметим, кстати, что перечисленные Толстым свойства остаются в герое и после выхода его из монастыря, и после его опрощения, и на всем протяжении его дальнейших странствий. А если вспомнить еще прочитывающуюся из более ранних рассуждений автора мысль об изначальном не достижении главной цели – т.е. – единения с Богом посредством молитвы, то благостный финал выглядит как прямое обольщение автора своими домыслами – да и как прямая, назовем вещи своими именами, ложь, противоречащая предыдущим психологическим раскладам. Духовные же – как были, так и остались недоступными и для автора, и для героя.
Но для начала - даже о не религиозной, просто житейской прелести, присутствующей в подходе автора к исходному материалу и закономерно перешедшей вглубь текста. Чтобы вычленить прелестный подход к прелестному житию (вернее – к претензии на него), стоит сравнить описанное Толстым с некоторыми моментами из жития преподобного Аввы Иакова Постника – моментами, послужившими Толстому предпосылками для описания искушений, отвративших от монашеского жития его героя.
Канва событий, можно сказать, та же, но здесь важна не канва, а разность реакций вполне реального преподобного и вполне литературного толстовского персонажа на женские уловки. В Житии упор делается на телесную и душевную чистоту святого, а также на его милосердие. «Он, -читаем в Житии, - послушав ее (женщины) мольбы, вышел к ней и тотчас, зажегши огонь и принеся Святой елей, какой имел у себя, сел около нее. Держа свою левую руку на огне, святой, обмакнув правую руку в Святой елей и прикоснулся телу женщины, то творя крестное знамение, то помазуя и согревая рукою ее сердце, ибо она жаловалась на сильную боль в сердце. Движимая нечистыми пожеланиями, женщина хотела и в святом возбудть похоть и склонить его ко греху, и потому говорила ему:
- Умоляю тебя, отец, еще помажь меня елеем и согрей рукой мое сердце, дабы совсем прекратились мои страдания.
Блаженный Иаков, будучи прост сердцем и незлобив, поверил словам женщины и исполнил, что она просила. Но, зная бесовское прельщение, воздвигающее брань против плоти, и боясь как бы от излишнего милосердия и соболезнования к женщине не привести свою душу к вечной погибели, в течение двух или трех часов держал свою левую руку на огне с твердостию претерпевая боль, до тех пор, пока не отвалились суставы пальцев. Так блаженный боролся с дьявольским искушением, чтобы от нестерпимой боли ни один нечистый помысл не пришел ему на ум. Увидав, что сделал святой, женщина пришла в ужас. Она умилилась сердцем и, тотчас встав, припала со слезами к ногам святого, бия себя в грудь и восклицая:
- Горе мне окаянной и ослепленной! Горе мне, что я сделалась жилищем диавола.
Святой, видя, что она плачет, и слыша слова ее, сильно удивился".
Далее, после прилежной молитвы, которую не лишне отметить, идут участливые расспросы святого и чистосердечное раскаяние женщины. И только после этого«преподобный вздохнув и, пролив многие слезы, воздал благодарение Богу; затем, поучив и благословив женщину, отослал ее к епископу Александру». Который, добавляю от себя, согласно тексту жития, «окрестил ее и отослал в женский монастырь, где она своею жизнью угодила Богу и даже сподобилась получить власть над бесами».
Не то у Толстого. Во первых, визиту женщины к отшельническую келью Касаткина предшествует довольно обширное авторское введение, где он то от себя, то от лица героя описывает его борьбу с похотью и с сомнением в существовании Бога (последнее в особенности акцентируется) – борьбу, что довольно курьезно, посредством молитвы к Тому Самому Богу, в Которого он не верит. Уже в этом месте в размышлениях героя присутствуют те прелестные моменты, которые со временем станут основой еретических взглядов (в буддистском, в частности, духе) не только героя, но и самого автора, вроде вот таких: «Зачем весь мир, зачем вся прелесть его, если он греховен и надо отречься от него? Зачем Ты сделал этот соблазн? (Обращение Ты направлено здесь, конечно же, к Богу). Но не соблазн ли то, что я хочу уйти от радостей мира и что-то готовлю там, где ничего нет, может быть». И т.п. - вроде зафиксированного раннее: «и оба врага (имеется ввиду – сомнение и похоть) всегда поднимались вместе. Ему казалось, что это были два разные врага, тогда как это был один и тот же». Далее, правда, подверстывается более близкое к святоотеческому учению уточнение: как только уничтожалось сомнение, так уничтожалась похоть. Но после этого – возвращение вспять: «но он думал, что это два разные дьяволы, и боролся с ними порознь».
И дальнейшее утишение чувств происходит не от молитвы, но от своеобразного волевого самовнушения. «Он убрал назад все выступающие сомнения, - так и пишет Толстой. - Как устанавливают предмет неустойчивого равновесия, он установил опять свою веру на колеблющейся ножке и осторожно отступил от нее, чтобы не толкнуть и не завалить ее. Шоры выдвинулись опять и он успокоился. И он заснул». И сразу же после этого, впритык, следует сцена искушения женщиной, из которой стоит выделить вот какие моменты.
Первый: попытку применить все то же волевое усилие с целью прогнания от себя слухового наваждения, как он поначалу считает, женского голоса, нежного, робкого и милого, согласно замечанию автора, переадресованного герою, который тут же сплевывает от досады и становиться на молитву, но вместо молитвы невольно напрягает слух, чтобы убедиться в возможной реальности этого голоса, которая, получается, для желательна. Неудивительно при этом, что когда не остается сомнений в указанной реальности «вся кровь прилила к сердцу и остановилась. Он не мог вдохнуть».
Вспомним в связи с этим абсолютно невозмутимую реакцию в подобной ситуации преподобного Иакова, который всего-навсего удивился появлению женщины в такой глухой час – и ничего боле. Не то толстовский отшельник, который, убедившись не в бесовской, но во вполне человеческой природе гостьи, почувствовав приступ похоти, сразу же начинает паниковать. Здесь и горячечная, беспокойная молитва, и дрожащие руки, и вдыхание запаха духов. Самое же главное – это то, что Сергий, в отличие от древнего простодушного отшельника, сразу же понимает, с какой целью приехала к нему женщина. И, тем не менее, не обольщаясь насчет ее намерений, все-таки ее у себя оставляет.
Зачем я все это сейчас говорю? Затем, чтобы показать читателю, что все последующее, которое произойдет далее с героем, все его дальнейшие лже-духовные искания, уже косвенно намечены в этом эпизоде, где темные желания совмещены с тягой к какой-то экспериментальной, недопустимой в положении героя, накрученной психологичностью, с любопытством к тому, что любопытства представлять не должно. Однако назвать эту борьбу духовной можно только с очень большой натяжкой – если только вообще возможно ее так назвать. «Он испытывал нечто подобное тому, - точно отмечает Толстой, - что должен испытывать тот сказочный герой, который должен был идти не оглядываясь. Так и он может спастись, только ни на минуту не оглядываясь на нее. Но вдруг желание взглянуть охватило его».
Такой вот новый Хома Брут, вожделеющий ведьмы – и одновременно страшащийся своего вожделения. Чисто психологически, пожалуй, даже и религиозно, здесь все правильно, только к ряду, приведенному Толстым: «Сергий слышал, чуял, что опасность, погибель тут, над ним, вокруг него",- для большей полноты и точности следовало бы добавить еще и: внутри его; однако последнее совсем не в духе героя, да и автора, как известно, тоже.
Самое же большое отличие в сравнении с Житием преподобного Иакова, отмеченное самим Толстым (и со ссылкой, кстати, на отмеченное житие со стороны Сергия), мы находим далее:
«В это же мгновение она сказала:
- Послушайте, это бесчеловечно. Я могу умереть.
«Да, я пойду, но так, как делал тот отец, который накладывал одну руку на блудницу, а другую клал на жаровню. Но жаровни нет». Он оглянулся. Лампа. Он выставил палец над огнем и нахмурился, готовясь терпеть, и довольно долго ему казалось, что он не чувствует, но вдруг – он еще не решил, больно ли и насколько, как он сморщился весь и отдернул руку, махая ею. «Нет, я не могу этого».
«Так что же, я погибну? Так нет же».
Довольно комично здесь и вот это – нахмурился, готовясь терпеть, и сама попытка подражания древнему отшельнику, и слова: нет, я не могу этого, ибо все это свидетельствует о том, насколько чужды герою длительные испытания искушениями. Конечно, сложно со всей искренностью помазывать женскую грудь маслом, держать длительное время на этой груди одну руку, тогда как другая рука в это же время сжигается до кости огнем. Легче, конечно, отрубить фалангу пальца, как это делает Сергий. И, что самое главное – менее болезненно, мгновенно – раз – и конец соблазну. И, главное – в отличие от древнего святого, все это Сергием проделывается более в состоянии аффекта, нежели сознательно, о чем свидетельствуют следующие приводимые Толстым детали: «Он быстро прихватил отрубленный сустав подолом рясы (зачем, казалось бы?) и, прижав его к бедру, вошел назад в дверь и, остановившись против женщины, опустив глаза, тихо спросил:
- Что вам?»
Далее – самое важное. Преподобный Иаков, как мы помним, будучи прост сердцем и незлобив, поверил словам женщины и исполнил, что она просила. Но, «зная бесовское прельщение, воздвигающее брань против плоти, и боясь как бы от излишнего милосердия и соболезнования к женщине не привести свою душу к вечной погибели, в течение двух или трех часов держал свою левую руку на огне, с твердостию претерпевая боль - до тех пор, пока не отвалились суставы пальцев. Так блаженный боролся с дьявольским искушением, чтобы от нестерпимой боли ни один нечистый помысл не пришел ему на ум». Все это последовательно отмечается в Житии.
Сергий же, начавший испытывать плотское жжение на дальнем расстоянии от женщины, в состоянии аффекта отрубивший сустав на пальце, после этого «поднял глаза, светившиеся тихим радостным светом (радость эта, конечно же - следствие гордости за свой поступок, а не благодарности Богу, не позволившему восторжествовать похоти), и сказал:
- Милая сестра, за что ты хотела погубить свою бессмертную душу? Соблазны должны войти в мир, но горе тому, через кого соблазн входит…Молись, чтобы Бог простил нас».
Ты, мол, молись, а мне незачем: моя-то бессмертная душа в полной безопасности, я-то никого не соблазняю. И далее:
«Он тихо прошел в чулан и запер за собою дверь.
- Простите меня, - сказала она. – Чем выкуплю я грех свой?
-Уйди.
- Дайте я перевяжу вам палец.
- Уйди отсюда.
- Отец Сергий. Простите меня.
-Уйди. Бог простит.
- Отец Сергий. Я переменю свою жизнь. Не оставляйте меня.
-Уйди.
- Простите и благословите меня.
- Во имя Отца и Сына и Святого Духа, - послышалось из-за перегородки. – Уйди.
Она зарыдала и вышла из кельи».
Весьма двусмысленен, повторяю, этот странный свет, который излучают глаза Сергия, подозрителен и испытываемый им при этом восторг (авва Иаков в идентичной ситуации его не испытывает, оставаясь совершенно невозмутимым как внешне, так и внутренне). Для самого же Сергия пережитое им в этот момент искушение имеет громадное значение, воспоминание о нем он сохраняет на протяжении долгих лет, более того – оно служит для него неким путеводным светом, в чем мы убеждаемся ближе к финалу повести. Читаем: «Все меньше и меньше оставалось времени для духовного укрепления и молитвы. Иногда, в светлые минуты, он думал так, что стал подобен месту, где прежде был ключ. «Был слабый ключ воды живой, который тихо тек из меня, через меня. (Обратим внимание на эту характерную, дающую понятие о прелестном духовном состоянии Сергия оговорку: из меня, с последующим добавлением, вряд ли имеющим вид уточнения: через меня. Но через и из – это принципиально разные вещи. У Сергия же они идут друг за другом, через запятую). То была истинная жизнь, когда она (он всегда с восторгом вспоминал эту ночь и ее, теперь мать Агнию) соблазняла его. Она вкусила той чистой воды (слава Богу, хоть здесь Сергий удерживается от дополнения: текущей из меня; впрочем, эта мысль возникает в следующей фразе). Но с тех пор не успевает набраться вода, как жаждущие приходят, теснятся, отбивая друг друга. И они затолкли все, осталась одна грязь». Так думал он в редкие, светлые минуты; но самое обыкновенное состояние его было: усталость и умиление перед собой за эту усталость».
Отметим и эти два новых момента: светлые минуты во время сладострастных и самообольстительных воспоминаний (самообольстительных – по причине восприятия себя как самовосполняющегося источника чистой воды) и умиления перед усталостью, наступающей после радости от обилия посетителей, ждущих от него помощи. Но вернемся к эпизоду эротического искушения.
Ситуация эта и благополучное разрешение ее вроде бы как нельзя более должна содействовать объединению в Боге переживших ее двух людей. Однако расстаются они как враги, вернее, один – как обиженный ребенок, другая – как ребенок, тщетно пытающийся заслужить прощение. Последующее сладострастное воспоминание Сергия дает некоторый ключ к его тогдашнему поведению. Однако же с чего такое резкое преображение, последовавшее далее со стороны женщины? Не от шока же при виде отрубленного пальца, который начинает, быть может, мерещиться легкомысленной барыньке в страшных снах, уходит она далее в монастырь, где живет строгой жизнью? Тем более, вряд ли содействовало этому поведение Сергия, предстающие резким контрастом в сравнению с отношением к раскаявшейся женщине преподобного Иакова, который, напоминаю текст его Жития, «видя, что женщина плачет и слыша слова ее, сильно удивился, а потом, вздохнув и, пролив многие слезы, воздал благодарение Богу; затем, поучив и благословив женщину, отослал ее к епископу Александру».
Здесь как раз и не удивительно, что, «увидав, что сделал святой, женщина пришла в ужас. Она умилилась сердцем и, тотчас встав, припала со слезами к ногам святого, бия себя в грудь и восклицая:
- Горе мне окаянной и ослепленной! Горе мне, что я сделалась жилищем диавола». А уже после этого уходит в монастырь.
Еще разительней разница в описаниях последующего искушения – на этот раз со впадением в блуд, из которых уместнее привести вначале толстовское, в котором, как всегда у Толстого, выпячены на первый план липко-физиологические моменты вперемежку с описанием симптомов гордостного душевного повреждения, которые, кстати, выделены и в житии древнего святого. Но там одолевшая старца похоть отодвинута на второй, наличие гордости - на первый. «Таков плод горделивого самомнения, - скорбно роняет повествователь, только что описавший падение старца, - ибо если бы этот инок не считал себя святым и великим в добродетели, то не впал бы в такие лютейшие грехи и не поругался бы враг над старостью того, кто в юности некогда победил его ухищрения». У Толстого вроде бы то же самое - да не то. «Он читал молитву, в которой говорил о своем отречении от мира, и торопился поскорее прочесть ее, чтобы послать за купцом с больной дочерью…Купцова дочь интересовала его тем, что она имела веру в него, и тем еще, что предстояло на ней подтвердить свою силу исцеления и свою славу». И несколько далее: «Ему было приятно узнать, что купцовой дочери двадцать два года, и хотелось знать, красива ли она. И, спрашивая о ее слабости, он именно хотел знать, имеет ли она женскую прелесть или нет». Далее идет тоже какое-то липко-сальное, выдающее сладострастника, описание купеческой дочери. И в том же духе - симптомы, предшествующие падению. Последующая же реакция на Сергия по поводу его же собственного падение выдержана в тонах чрезвычайно сдержанных. Такое впечатление, что по этому поводу Толстому нечего сказать. А вот в житии аввы Иакова после изнасилования, убийства и потопления в реке трупа как раз-то и начинается то главное, ради чего это житие было написано. Прочтем большой фрагмент его, который позволит нам наглядно увидеть различия между дальнейшим покаянием потрясенного случившимся святого Иакова и тем, как устраивает свою жизнь не очень-то расстроенный греховным падением Сергий.
«После сего диавол стал низводить Иакова как связанного пленника в последний ров погибели, в самый тяжкий из всех грехов, в Каиново и Иудино отчаянье. Старец, сидя в келии, не знал, что остается ему сделать. Сильно обличаемый совестью, вздыхая и предаваясь отчаянью, не смел он уже открыть уст для молитвы, ни обратить свой ум к Богу. (Т.е. павший старец считает себя недостойным Бога. Как я могу возвести свои глаза к высоте небесней? - говорит он далее, - если дерзну я признать имя Христово, огонь небесный истребит меня". Сергий глаза в небо возводить и не думает, ибо считает, что Бога нет ни там, ни в каком другом месте, а поэтому и Бога не страшиться – разница, как вы понимаете, огромная). Он задумал бежать в другую какую-нибудь отдаленную страну, - повествуется далее в Житии, поселиться в миру, и на старости служить миру и дьяволу. Выйдя из пещеры, он быстро направился в путь, гонимый и волнуемый отчаянием, как сильною морскою бурею.
Но превеликая, безмерная и человеколюбивая благость Христова, коей не могут преодолеть грехи всего мира, хотящая, чтобы спаслись все люди и ни один из них не погиб, не оставила и сего старца погибшего, не допустила бесам до конца возрадоваться его погибели, но по неизглаголанным своим судьбам, устроила ему восстание от падения и обновления». Последнее, добавлю от себя, через людей, перед которыми он с покаянными слезами исповедует свой грех – а они, в свою очередь, с такими же слезами умоляют его усилить покаяние и не впадать в отчаянье, ибо Бог прощает всех кающихся. Убежденный ими, Иаков поселяется в погребальной пещере, где «провел целых десять лет в непрестанных слезах, воздыханиях и молитвах, днем и ночью взывая с плачем к Богу, исповедуя свои грехи и без пощады бия себя в грудь».
«Всещедрый и многомилостивый Господь, - говориться далее, - не желающий погибели грешника и ожидающий обращения его, не презрел столь долгого покаяния блаженного Иакова; услышав вопли его и исповедание грехов, простил ему согрешения и снова даровал благодать чудотворения».
Уместно отметить, что в повести Толстого ни слова нет о благодати Христовой ни относительно чудотворения, способностью к которому якобы отмечен его герой, ни относительно прощения, в котором, впрочем, Сергий и не нуждается, ибо не считает себя виновным перед Богом; по этой же причине отсутствует то длительное покаяние, которому, в отличие от него, на протяжении долгих лет предается блаженный Иаков.
В чем тут дело? Да в том, что Авва Иаков – монах, а о. Сергий таковым не является. Говоря более обобщающе, разлюбившие мир и возлюбившие Христа принимают монашество, чтобы служить Ему; Касатский же становиться монахом, чтобы служить своим страстям. Куда уж дальше – само монашество Касатский принимает, будучи, в сущности, неверующим человеком. И далее оно его не очень интересует – так себе, по касательной. Ощущаете разницу? Один, принимая монашество, предает себя в руки Христу, другой – потакает пришедшей в голову очередной прихоти, по самопринуждению, не задумываясь, есть ли на то воля Божья. Естественно, что и далее он ее не ищет, ища вместо этого удобных и устраивающих его обстоятельств для обретения внутреннего комфортного самоощущения(не Бога!). Внешнее же – здесь надо отдать ему должное – ему давно не интересно. «Все внимание, все интересы его были сосредоточены на своей внутренней жизни», - пишет Толстой. Но, опять таки: насколько целенаправлен такой интерес. А ведь он далеко не целенаправлен, ибо конечная цель – постижение Божьей воли в нем отнюдь не присутствует. Как не просматриваются перспективы пути навстречу Богу.
Скажут: но ведь движение Сергия в направлении, так сказать, обретения своей миссии не подлежит сомнению. Да, но дело в том, что переход от возгордившегося Сергия, прославленного людьми к никому не известному страннику в тексте никак не зафиксирован. Очень важная для перемены его участи свидание с Пашенькой – не в счет, ибо, несмотря на всю важность этого пикового момента, коренным его отнюдь не назовешь; да и предпосылки к этому просматривались и раннее, на протяжении всего сюжета. Здесь искания Сергия находят свое завершение, но все-таки, повторюсь, это больше напоминает перелом жизни и судьбы, но не характера.
Впрочем, суть сомнений Сергия, если отбросить типичную для автора путаницу понятий, выражена довольно внятно. «Насколько то, что я делаю, для Бога и насколько для людей?» - вот вопрос, который постоянно мучал его и на который он никогда не то, что не мог, но не решался ответить себе», - пишет Толстой. Мне, однако, кажется, что лучше бы он себе этого вопроса не задавал – учитывая полную его неразрешимость. Во всяком случае, для таких людей, как он. Не задает же его себе воспринятая Сергием в качестве гуру Пашенька. Собственно говоря, в некотором смысле она этим гуру поневоле и вправду для него становиться – за тем исключением, что, во-первых, в этом качестве не воспринимает себя она сама; и, во-вторых – образ ее жизни, который Сергий применяет для собственного смирения в качестве образца, годен для определенного рода людей – но не для всех. Я не буду приводить сцену разговора с Пашенькой, интересанты при желании могут прочесть ее сами, но вот несколько обстоятельств, ей сопутствующих, присовокуплю, никак при этом не комментируя первое из них; зато считаю нужным сделать это относительно последующих.
Первый посыл ко всему последующему – это воспоминание Сергия о Пашеньке, сопровождаемое иррациональным страхом, затем - сон о ней.
«Да что мне об ней думать? Что я? Кончать надо».
И опять ему страшно стало, и опять, чтобы спастись от этой мысли, он стал думать о Пашеньке.
Так он лежал долго, думая то о своем необходимом конце, то о Пашеньке. Пашенька представлялась ему спасением. Наконец он заснул. И во сне он увидел ангела, который пришел к нему и сказал: «Иди к Пашеньке и узнай от нее, что тебе надо делать, и в чем твой грех, и в чем твое спасение».
Он проснулся и, решив, что это было видение от Бога, обрадовался и решил сделать то, что ему было сказано в видении».
Все это, добавлю – в крайне угнетенном состоянии, раннее отмеченном еще вот такой мыслью: «Да, надо кончать. Нет Бога». И, самое главное: «Хотел, как в минуты отчаяния, помолиться. Но молиться было некому. Бога не было». И тут же, сразу после этой мысли, во сне является ангел.
А теперь - размышления Сергия после того, как он покидает дом одной из многих не замечаемых миром русской праведниц после довольно таки поверхностного разговора с нею.
«Так вот что значил мой сон. Пашенька именно то, что я должен был быть и чем я не был. Я жил для людей под предлогом Бога, она живет для Бога, воображая, что она живет для людей. Да, одно доброе дело, чашка воды, поданная без мысли о награде, дороже облагодетельстваных мною людей. Но ведь была доля искреннего желания служить Богу?» - спрашивал он себя, и ответ был: «Да, но все это загажено, заросло славой людской. Да, нет Бога для того, кто жил, как я, для славы людской».
Вывод вроде бы и правильный, но посмотрим, как пытается исправить создавшееся положение Сергий: так же, как и раннее – исключительно волевым усилием со своей стороны, не уповая на помощь Бога. Но, несмотря на явное игнорирование, Бог, как пишет дальше Толстой, понемногу стал проявляться в нем. Фраза, очень типичная для Толстого: не герой стал возрастать в Боге, но Бог вдруг стал проявляться внутри его – и, по Толстому, вот почему: «Если удавалось ему послужить людям или советом, или грамотой, или уговором ссорящихся, он не видел благодарности, потому что уходил». Вот, оказывается, в чем дело: для того, чтобы не поддаваться на почитание, нужно бороться не с этим чувством внутри себя – достаточно уходить от чисто внешнего его источника. Не слишком ли просто?
Где, казалось бы, искать человеку Бога, как не в себе, в узком локализированном пространстве своей собственной души. Но поиски Сергия идут на неких других территориях, на которых содержимое собственного я не имеет или же теряет всякое значение. В этом случае, правда, имело бы большую для него пользу соединение этого я с я других людей, как это, собственно, и происходило с Пашенькой. Но Сергий, проходящий сквозь толщу жизни сменяющихся по мере странствия вокруг него людей то как нож сквозь масло, то в некотором отдалении, предпочитает абсолютное растворение этого я в возникающем подобии буддистского ничто. И тем самым ни на иоту не приближается к Богу; или, выражаясь точнее – не становиться к Нему ближе, чем то было до того. Скорее уж – дальше, чем когда бы то ни было прежде.