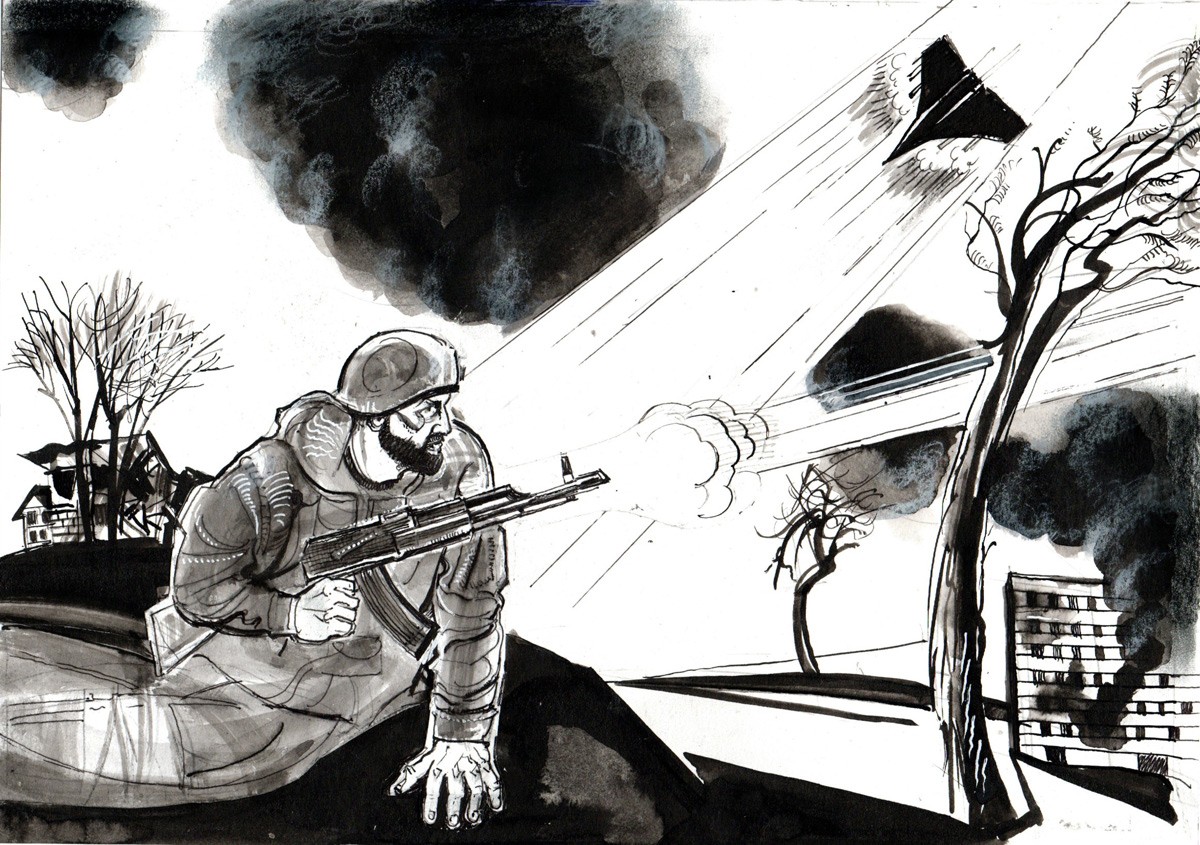Немецкое прошлое
Наверное, нет более надёжного способа обмануться в оценке вещей, чем рассматривать их только в настоящем, в отрыве от их прошлого. Больше того: когда само это настоящее воспринимается не по существу, а только по обозначению. Как, например, в интервью, которое корреспондент немецкого "Шпигеля" взял у Владимира Путина в июне 2007 года. После множества дежурных вопросов он неожиданно спросил: "Господин Путин, безупречный ли вы демократ?" (в оригинале: "lupenrein" — "чистой воды").
Можно, конечно, обратить внимание на профессиональную развязность вопроса, но нахрап — вторая натура журналиста, и упрекать его в этом было бы не только наивно, но и глупо. Интересно другое. Чтобы задать такой вопрос, молодой человек должен был быть абсолютно уверен в безупречности собственной демократии. Ему и в голову не могло прийти, что уверенность эта того же рода, что и производимая им изо дня в день информационная (или, если угодно, дезинформационная) ерунда. Он жил в некоем своём настоящем, не имея ни малейшего представления о прошлом: не том зачумлённом отрывке прошлого в промежутке между 1933 и 1945 годами, погрязшесть в котором и стала его настоящим, — а в том, где, как в зеркале, отражалась его идентичность.
Если попытаться охарактеризовать это прошлое по существу, то первым, что бросится в глаза, будет некое хорошо завуалированное отсутствие. История Германии после распада Римской империи и до 1945 года — это "Удивительная история Петера Шлемиля", написанная в 1813 году Адельбертом фон Шамиссо. Петер Шлемиль — человек, продавший свою тень дьяволу и оставшийся без тени. Чисто немецкий философский парадокс: оставшись без тени, он остался без самого себя, потому что не отбрасывать тень могло только то, чего нет. Германия без себя — это Священная Римская империя немецкой нации, о которой Вольтер сказал, что она "не является ни священной, ни римской, ни даже империей". Нужно просто сравнить историю этого гомункула с параллельно протекающими историями Франции, Англии, Испании, чтобы убедиться в позднем диагнозе Гёте: "Германия — ничто". За вычетом отдельных эпизодов, вроде эпохи великих Штауфенов (1138—1254), мы не найдём здесь ничего, кроме полигона чужих аппетитов и коллекции курьёзов, как, например, история с Карлом IV, которого после проигрыша в одном из игорных домов Флоренции ссудили деньгами лишь под залог короны. Или записи одного хрониста о Фридрихе III после известия о падении Константинополя: "Император сидит дома, засаживает растениями свой сад и ловит пичужек. Жалкое создание!"
Характерный момент: в "Энциклопедии", издаваемой Дидро и д'Аламбером статья "Германия" занимает менее чем полстолбца, половина которого посвящена какому-то торговому соглашению с Турцией.
Потом пробил час прусского школьного учителя. Пришлось за считанные годы, экстерном, нагонять упущенное тысячелетие. По сути, это было первое экономическое чудо, потрясшее и испугавшее ведущие державы, в особенности — Англию. Шутка ли сказать, но производство чугуна в промежутке между франко-прусской и Первой мировой войнами выросло в Германии на 334% (против английских 17%), а рост добычи угля за то же время составил 240% (против 60% в Англии).
Этот уникальный "базис" дополнялся химерической "надстройкой", что при врождённом немецком пороке романтизма не требовало особых усилий. Парад химер начался со Второго рейха, лишь удвоившего химеричность Первого. Абсолютный парадокс немецкого национализма, по модели лихтенберговского ножа без лезвия с отсутствующей рукояткой: если немецкие философы (Фридрих Альберт Ланге) выдумали "психологию без души", то немецкие патриоты ухитрились культивировать оголтелый национализм при если не отсутствующей, то, по меньшей мере, даже не оперившейся нации. "Люди должны научиться понимать, что тот, кто не говорит по-немецки, — пария", — писал англичанин Хьюстон Стюарт Чемберлен в 1914 году. Наверное, люди в самом деле научились бы этому, останься Германия при том, в чём ей не было равных, и не сделай она ставку на то, что — в силу особенностей национального характера — было ей просто противопоказано. Фантастическое трудолюбие и прилежание в сочетании с небывалым научным и художественным гением уживались здесь с прямо-таки ошеломляющей бездарностью в политике — за вычетом Бисмарка и двух-трёх мужей бисмарковской же школы и закалки. Из трёх составляющих социального организма: хозяйственной, политической и собственно культурной, — совершенными оказывались первая и третья, тогда как вторая демонстрировала абсолютную никчёмность и нежизнеспособность. Но именно она и стала, с момента возникновения национального германского государства, определяющей, после чего было лишь вопросом времени, как долго это всё продержится.
Говоря со всей внятностью: немцу, чтобы достичь мирового господства, нужно было как можно дальше держаться от соблазна вовлечения в политику. Тысячелетнее отсутствие политического опыта вкупе с врождённой предрасположенностью к мечтательности и идеализму делало его абсолютно уязвимым, особенно на фоне окружающих его как с Запада, так и с Востока соседей и соперников. Немецкий "корабль дураков" бесцельно скользил по Рейну и фламандским каналам, в то время как флотилии Западной Европы открывали и осваивали мировые пространства. Ко всему прочему "увалень" оказывался и "занозой", отравляющей другим беззаботные радости существования (как, скажем, Лютер, устроивший разнос в римско-католическом лупанарии, или позже Глюк, потребовавший от итальянских castrati прекратить сценический произвол и подчиниться воле композитора).
Немецкое прошлое закончилось с Первой мировой войной. Потребовалось ещё целых тридцать лет, пока это стало очевидным. Начало концу положил Версальский мир, причём даже не столько материально: почти 70 тысяч отторгнутых квадратных километров, передел всех колоний, репарации размером приблизительно в 100 тысяч тонн золота (последний транш, в 70 миллионов евро, был выплачен в 2010 году), — сколько морально: статья 231, согласно которой Германия несёт единоличную вину за развязывание войны. Характерно, что эта статья и по сей день находит самых рьяных защитников как раз среди немецких историков, для которых любое сомнение в абсолютной вине своей страны равносильно признанию в собственном фашизме.
То, что Версальский договор послужил толчком к новой войне, давно уже стало общим местом. Есть все основания полагать, что это не было ни наивностью, ни оплошностью победителей, а только тщательно спланированной репетицией окончательного и уже бесповоротного решения "немецкого вопроса".
Немецкое настоящее
С концом немецкого прошлого пришло немецкое настоящее, которому покойный канцлер Гельмут Коль подыскал странную, но точную формулу: "милость позднего рождения". Он имел в виду немцев, которые появились на свет после 1945 года. Наверное, он мог бы сказать: которым повезло родиться после 1945 года. Немецкая история, с этого времени по сей день, — и есть немецкое настоящее: некий стоп-кадр, или прекрасное мгновение Фауста, замершего в нём, словно в рамке, и даже не ощутившего, что это остановленное мгновение было на деле — остановленным сердцем.
Понять немецкую действительность, в каком угодно: политическом, хозяйственном, культурном, — срезе без этого мгновения, значит заменить восприятие действительности уже обозначенной выше информационной (или дезинформационной) ерундой. Можно попытаться в максимально сжатом виде воспроизвести анамнез случившегося.
Некая, мягко говоря, ирония заключается в том, что отцом-основателем немецкого настоящего суждено было стать одному английскому философу XVII века. Джон Локк, либерал, либертарианец, просветитель, приобрёл, среди прочего, широкую известность своей теорией "чистой доски" (tabula rasa), согласно которой люди рождаются без врождённых идей, а человеческая душа при рождении представляет собой некий незаписанный чистый лист бумаги (white paper), на который извне через восприятия наносятся опыт и знания.
Потомки Локка развили эту незатейливую философию, перенеся её с отдельных людей на целые страны и народы. Прообразом, разумеется, послужили Соединённые Штаты Америки с их пуританскими первопроходцами, которым, за отсутствием всякого прошлого, не составляло труда просто быть "чистыми досками", в которые, как в будущие "чёрные ящики", входят ощущения, а наружу выходят условные рефлексы.
Гораздо труднее обстояло со странами, имеющими прошлое. То есть с теми, доски которых были уже настолько исписаны, что все вносимые туда извне новые содержания могли восприниматься только в контексте уже имеющихся. Безошибочный инстинкт подсказывал единственно возможное решение: то, что не поддаётся метафизическому воздействию, могло быть исправлено политически. Ковровые бомбардировки немецких городов во время Второй мировой войны, аналог которых английский историк Лиддел Гарт увидел в монгольских нашествиях на Европу времён Чингисхана, продемонстрировали высокую эффективность такого подхода. Бомбились прежде всего центры городов и жилые кварталы, поэтому нередки были случаи, когда нетронутыми оставались именно военные предприятия (как, например, эссенские заводы Круппа в июне 1943 года).
Германия к концу Второй мировой войны, с её 161 городом-трупом и более 800 испепелёнными населёнными пунктами, стала гигантской "чистой доской", готовой к нанесению на неё новых содержаний и опытов — во исполнение цели, сформулированной лордом Ванситтартом, главным дипломатическим советником правительства Его Величества, в 1941 году: "С Божьей милостью и во спасение человечества, мы избавим мир от Германии, а Германию — от неё самой".
Два миллиона тонн бомб, сброшенных на Германию, имели продолжение в послевоенной программе так называемого перевоспитания, где онемевшему от страха населению психоаналитически внушалось, что всё это делалось ради него и ради его светлого будущего. Потом с планом Маршалла пришло время очередного экономического чуда. Карл Шмитт, один из немногих "неперевоспитуемых", записал в дневнике 20 мая 1949 года: "Чудо немецкой марки: Томас Манн снова появляется в Германии".
Уравнение с двумя отсутствующими: с 1945 года место выбомбленного немецкого прошлого занимает немецкое настоящее. Разница между ними в том, что первого не было, а второго нет. Понять и объяснить это было бы под силу, пожалуй, только немецкому философу, но, поскольку нет и немецких философов, придётся либо увидеть это и принять как факт, либо смотреть на это в упор, оставаясь слепцом с открытыми глазами.
Кабинет негодностей
О герцоге де Бройле, министре иностранных дел в правительстве Луи-Филиппа, изящно выразился однажды Талейран: "Призванием господина де Бройля было не быть министром иностранных дел". Похоже, это могло бы быть сказано сегодня о едва ли не всех политиках: их призванием, назначением, смыслом было не быть теми, кто они есть, даже если бы при этом они перестали вообще быть. Или оказались бы хоть на что-либо годными. Как тот, к примеру, член Федерального совета Швейцарии (Адольф Оги), который по телевизору объяснял швейцарским домохозяйкам, как экономить электроэнергию при варке яиц: вскипятить в сковородке слой воды толщиной в два пальца, после чего выключить плиту и использовать остаточное тепло.
Это оптимальный случай сообразительности. На деле всё гораздо хуже. Похоже, кухарки и в самом деле поверили, что могут управлять государством, после чего выяснилось, что и кухарки они — никакие. Ну, какому шутнику пришло бы в голову доверить кухню Терезе Мэй или, прости господи, Дале Грибаускайте!
В этом виварии негодностей немецким политикам принадлежит особое место. Они негодны настолько, что их не замечают даже собственные телохранители. Я цитирую июньский номер журнала "Шпигель" за 2000 год: "Для федерального министра обороны дело шло о совершенно обычном служебном полёте. Но вскоре после take off кто-то спросил сквозь облака: "А где, собственно, Рудольф?" Целью полёта была Фейра в Португалии. Там Шарпингу предстояло принять участие во встрече "на верхах" Объединённой Европы. И вдруг обычная трескотня в кокпите была прервана вопросом о министре обороны. Выяснилось, что Шарпинг не на борту, а стоит всё еще в аэропорту Кёльн/Бонн. Отсутствие министра бросилось в глаза одному из членов делегации, когда самолёт пролетал уже над Ганновером. Экипаж пилотов бундесвера развернул машину обратно в направлении кёльнского аэропорта и с тысячекратными извинениями взял своего высокого начальника на борт".
Конечно, на месте Рудольфа Шарпинга мог оказаться любой и любая из них. Включая намертво вросшую в своё кресло канцлершу, которую её творец Коль называл "девочкой", а прочие недоумки называют "мамочкой". Это абсолютные нули, кичащиеся своей "безупречной демократией" и отличающиеся друг от друга самое большее раскраской и регистрационным номером в Гражданском кодексе. Их особенность в том, что они, не будучи честными, не могут быть хитрыми, а только никакими. Они навсегда застряли в пубертатности, в любимом зелёном цвете, этом символе вечной незрелости, в котором сегодняшний немец столь же инстинктивно опознаёт свою политическую идентичность, как когда-то он опознавал её в любимом коричневом цвете.
Как ни странно, но, похоже, именно в незрелости и лежит ключ к их популярности. Они могут принимать любые пагубные решения, пробивать лбом заслоны здравого смысла, плодить бессмыслицу, не только оставаясь при этом на плаву, но и набирая очки. Что их всех роднит и примиряет, так это патологическая ненависть к своей стране, которую они даже не пытаются скрывать, — напротив, охотно демонстрируют при случае и без случая. На официальном сайте "зелёных" долгое время красовалась фотография школьников, справляющих малую нужду на валяющийся у них под ногами государственный флаг Германии. В день памяти жертв бомбардировки Дрездена в различных городах прошли демонстрации с плакатами: "Bomber Harris, do it again!" ("Бомбер Харрис, сделай это снова!"). И даже конкретнее: "Бомбер Харрис, убей ещё раз немецких женщин и детей!" Клаудия Рот, "зелёная" вице-президентша Бундестага, на марше протеста против партии "Альтернатива для Германии" в Ганновере исступлённо выкрикивала: "Германия, ты — жалкий кусок дерьма!" и "Германия, сдохни!" Это как раз тот самый случай, когда всем следует молчать, чтобы дать слово психиатру.
"Немецкая яичница"
Можно, конечно, говорить о частностях немецкой политики, внутренней и внешней, анализировать встречи Меркель с Трампом или Путиным (Обама, уходя, сказал о ней: "Теперь она совсем одна"), всё равно — мы не поймём в этой политике ровным счётом ничего, если не станем осмысливать её на истории её последних двадцати лет. История Германии: от конца эры Коля до бесконечности эры Меркель, — это история её последовательного и непреложного "позеленения" с окончательным (и сегодня уже очевидным) впадением в маразм.
Случай требует более подробного и обстоятельного анализа. Известно, что "зелёные", ядро которых составляли дебоширы 1968 года, возникли как ультралевая партия в пику христианским демократам. С их появлением в немецкой политике повеяло духом улицы, коммуналок и беспорядочных сношений. Гопник и хулиган Йошка Фишер, будущий министр иностранных дел в правительстве Шрёдера, эпатировал элиты не только джинсами и белыми кроссовками, но и фразами вроде: "Господин президент, с позволения сказать, вы — мерзавец", или о канцлере Коле: "Три центнера прошлого, ставшего мясом". Впоследствии, набрав сам до "пяти центнеров", он угомонился и вошёл во вкус, защищая тот самый истеблишмент, на истреблении которого сделал себе карьеру.
Очень скоро "зелёные", начавшие с проблем экологии и защиты окружающей среды, стали тяготиться узостью профиля и расширили свою программу до глобальных внешне- и внутриполитических тем. Это расширение отвечало всем признакам логической процедуры, известной как сведение к нелепости. Вдруг эти бешеные миротворцы, когда-то сжигавшие американские флаги и готовые костьми лечь за прекращение войны во Вьетнаме, стали требовать бомбардировок Югославии и вообще любых стран, нарушающих принципы демократии. Так же и во внутренней политике не пошло дальше известной торговой марки с собакой, слушающeй граммофон, his master’s voice: здесь всё вертелось вокруг легализации однополых браков и открытых границ (их последний проект, внесённый на обсуждение в бундестаге, посвящён необходимости "феминизации внешней политики").
Самое интересное: начиная с 90-х гг. в Германии всё больше и больше стирается граница между правоцентристскими христианскими демократами и левоцентристскими социал-демократами. Тенденция сближения — тяга к центру, так что ударение в обоих случаях падает не на "правое" и "левое", а на "центристское". Быть "правым" (особенно в Германии) — рискованное дело, ввиду опасности автоматического причисления к фашистам. С другой стороны, и социал-демократам, любящим напоминать, что сердце бьётся слева, следовало бы знать: важно не где, а как бьётся сердце. В итоге обе партии, пытавшиеся усесться на двух стульях: том, что с краю, и том, что в центре, — повисли в пустоте, поскольку быть реально "правой" и реально "левой" им мешала их центричность, а быть центром — их "правизна" и "левизна". Центр оставался вакансией, и вот тут-то и пробил час "зелёных", ставших вдруг катализатором сближения тех и других в причудливых коалиционных тандемах.
Нелепость заключалась в том, что роль центра выпала крайне левой партии, исповедующей радикализм и открытое презрение ко всякого рода центрам. Они даже и не думали акробатничать между двумя стульями, а просто обалдели от неожиданности, увидев свой стул перенесённым слева в центр, а себя — де-факто ведущей политической силой. Христианским демократам и социал-демократам в их равнении на центр не оставалось ничего другого, как равняться на "зелёных". За время правления Ангелы Меркель тенденция позеленения "чёрной" ХДС выросла до неприличия: оголтелая левизна, занявшая центр, откровенно поощряется традиционными консерваторами. В то же время малейший сдвиг вправо чреват исключением из партии — как это, к примеру, случилось с депутатом бундестага Хоманном в 2004 году. Вот и буквально свежий пример: преемница Меркель, Аннегрет Крамп-Карренбауэр (её, по понятным и уважительным причинам, догадались называть АКК) пошутила о туалетах для "нейтрального пола", сказав, что они, скорее всего, устроены для тех мужчин, которые не знают, должны ли они мочиться стоя или сидя. Берлинский сенатор Клаус Ледерер назвал это "трагедией", и теперь все хором требуют от острячки извинений.
Но ничуть не меньше "позеленела" и "красная" СПДГ, вливаясь в различные союзы: с "зелёными", "чёрными", какими угодно. При всём отличии всех от всех, все прекрасно знают, что всегда найдут общий язык в туалетах для "нейтрального пола".
Старый рецепт В.В. Розанова стал вдруг реальностью немецкой политической жизни: "Нужно разрушить политику… Нужно создать аполитичность. Бог больше не хочет политики, залившей землю кровью, обманом, жестокостью. Как это сделать? Нет, как возможно это сделать? Перепутать все политические идеи… Сделать "красное" — "жёлтым", "белое" — "зелёным", — разбить все яйца и сделать яичницу".
Немецкая яичница, состряпанная неудавшейся кухаркой Меркель, остаётся образцом несъедобности. За четырнадцать лет нахождения у власти это ничтожество претворило в жизнь самые сумасбродные фантазии былых студенческих горлопанов и оторвистов. Последним актом зелёно-чёрно-красного оборотня стала так называемая "культура гостеприимства": миллионы беженцев, затопившие немецкие города и сделавшие их в веках устоявшийся и воспетый уют адом.
Факт "позеленения" Германии, которой "зелёные" желают сдохнуть, подтверждается множеством примеров, и ярче всего — их сенсационной победой (17,5% голосов) на выборах в баварский ландтаг в октябре 2018 года. Шутка в том, что это случилось в католической Баварии, самой консервативной из всех немецких земель. Михаил Клоновски, один из немногих современных умов, по которым ещё можно опознавать немецкую идентичность, цитирует письмо, полученное им от одного своего читателя: "После 55 вёсен земного существования в Восточной Германии я могу из результата выборов в Баварии лишний раз извлечь созревшее тем временем до убеждения осознание того, что большинство людей, от мала до велика, в этой стране (с 2015 года место поселения) из двух возможных путей всегда с прямо-таки инфантильно-упрямой решительностью выбирают тот, который с абсолютно предсказуемой достоверностью ведёт к погибели".
Версаль без войны
"Что общего между Версалем и Маастрихтом?" — спрашивает один французский журналист. И отвечает: "Оба раза Германия будет платить". Французская газета "Le Figaro" поясняет: "Маастрихт — это Версальский договор без войны".
Если, как было сказано выше, с момента образования Германии немецкая экономика и немецкая духовность (философия, наука, искусство) демонстрировали совершенство, а немецкая политика выглядела на их фоне жалким дегенеративным образованием, то после Второй мировой участь политики разделяет и духовность, вырождение которой уже достигло дна. Немецкие интеллектуалы соперничают с немецкими политиками по части слабоумия, притом так, что итогом почти всегда оказывается ничья. Чего стоит одна только концепция "конституционного патриотизма" Юргена Хабермаса — буриданов осёл, ухитряющийся не околеть между двумя стогами сена: бритоголовыми дебилами с их "Германия превыше всего!" и зелёными дебилками с их "Германия, сдохни!". Осёл призывает тех и других к примирению и упокоению в Конституции: немецкий патриот — тот, кто гордится не своими поэтами, композиторами, философами, ни даже, в сегодняшней неолиберальной версии, футболистами и манекенщицами, а — Основным законом для Федеративной Республики Германия.
А гордиться следовало бы производителями, предпринимателями, промышленниками — немецкой экономикой, которую вот уже сто лет доят все кому не лень, но так и не могут выдоить до конца. Да какой же смысл и толк в мощной, на грани чуда, экономике, если за ней не стоят столь же мощный политический ум и твёрдая политическая воля?! Если политики транжирят полученное, а обслуживающие их интеллектуалы (так и хочется сказать, интеллектуальи) обосновывают это приверженностью к общечеловеческим ценностям?! Вот Вольфганг Шойбле, до недавнего времени — министр финансов, а теперь — президент бундестага, заявил же, что Германия должна больше платить в ЕС и вообще быть более щедрой. Понятно, после такого надо быть идиотом, чтобы не отозваться должным образом на подобный идиотизм, выстроившись в очередь и скандируя ильфо-петровское "Деньги давай!". Вот уже и поляки требуют выплаты репараций за понесённый ими ущерб и преступления нацистов в годы Второй мировой войны. Похоже, в Варшаве даже определились с суммой — порядка 350 миллиардов евро. Но особенно восприимчивыми к немецкой щедрости оказались миллионы беженцев, которые готовы рисковать жизнью, лишь бы попасть сюда, в этот Шлараффенланд с молочными реками и кисельными берегами, где вместо камней повсюду лежит сыр, а жареные птицы летят прямо в рот. Где их обеспечивают не только бесплатным жильём и питанием, но и выплачивают пособия, вплоть до карманных денег. Как тому сирийцу, который ухитрился осесть в Германии с 4 жёнами и 23 детьми, чтобы, нигде не работая, получать более 360 тысяч евро в год. Единственное препятствие для этого, многожёнство, он устранил, дав развод трём своим жёнам и оставшись с одной. Так — по документам, предъявленным в соответствующие ведомства. Фактически же он продолжает жить со всеми, из которых трое, находясь в статусе разведённых, также получают полагающиеся им по законодательству пособия.
Можно предположить, что если когда-нибудь догадаются открыть в университетах кафедры по социальной дефектологии и политическому дебилизму, примерами из жизни современной ФРГ можно будет заполнять не книги, а библиотеки.
Факт: Германия, с постоянно восстающей из пепла экономикой на фоне отсутствующей политики и духовности, остаётся наиболее выдающимся достижением, почти что мастер-классом западной политической теологии. Они одурачили и обнулили её по полной программе, до дальше некуда. И хотя в известные моменты соблазн "убей немца!" и кружил головы даже таким политическим умельцам, как Клемансо и Черчилль, фактор здравомыслия и прагматики одерживал верх, не давая ненависти поставить последнюю точку. Эту "нелюдь" надлежало не искоренить, а всего-навсего оболванить и поставить себе на службу — словами министра иностранных дел Германии (бывшего хулигана и босяка) в дни бомбардировок Югославии: "Впервые за всё время нашей истории мы воюем на правильной стороне". Но, наверное, и здесь адекватнее всех оказался Трамп, одним-единственным жестом поставивший немецкого увальня перед реальностью. Во время саммита G7 в канадском Квебеке в июне прошлого года он встал, засунул руку в карман, достал две конфеты и бросил их на стол перед Меркель со словами: "Вот, Ангела, бери и не говори, что я никогда тебе ничего не даю".
И последнее. Едва ли это услышат, а услышав, поймут. Но засмолённые и брошенные в океан бутылки остаются, как и прежде, в силе.
Фридрих Геббель, великий немецкий драматург и мыслитель, написал в 1860 году: "Возможно, что немцы вновь исчезнут с мировой арены, ибо у них есть все качества, чтобы завоевать небеса, но ни одного, чтобы утвердиться на земле, и все нации ненавидят их, как злые ненавидят добрых. Но если их и впрямь удастся извести, придёт такое время, когда все рады будут ногтями выскрести их из могилы".