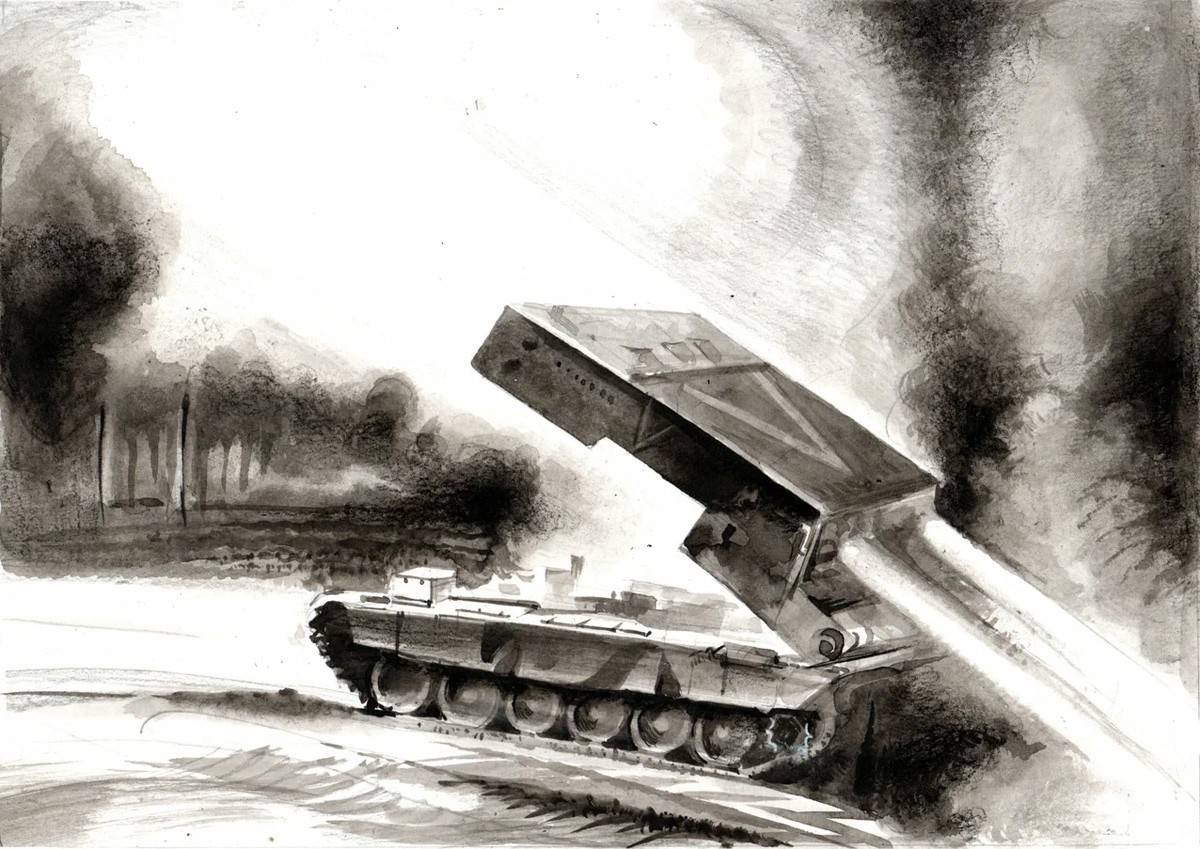«А х о в с к и й п о с а д» А.И. Левитова - один из шедевров жанра русской лирической прозы Х1Х столетия. Его опубликовала «Московская газета» (1866, № 5). С подзаголовком «Степные нравы старого времени» очерковая повесть публиковалась в «Грамотее»
(1873, № 3; № 5; №№ 6 – 7). Левитовский «Аховский посад» (с двумя рисунками) вышел отдельным изданием в 1877 в Москве. Отдельное издание его появилось в Лениздате (отдел Народного комиссариата просвещения) в 1919 году. «Аховский посад» включался в состав двухтомника ( изд. К.Т. Солдатенкова, 1884), четырехтомника (СПб., Н.Ф. Мертц, 1905), восьмитомника (СПб., «Просвещение», 1911), ещё одного двухтомника (М.-Л., «Academia»,
1932-1933).
…«Улицы Аховского посада, будто бы, нарочно убираемые чьей-то искусною рукой в лившиеся на них тонкие лучи раннего солнца, весело приветствовало тихо слетавшее к ним воскресенье. Что-то в высшей степени мягкое и покойное налетало на посад вместе с святым днем отдыха от будничных трудов, - носилось это что-то умиряющее одинаково светло и радостно и над высокими кирпичными хоромами второгильдейского купца Василья Ильича Пестрых, и заглядывало в задымленные окна угрюмоуткнувшейся в землю избушки старого дьячка Селиверста Анапестова. На всем, что только видели глаза, лежали какие-то необыкновенно радующие, радужные цветы».
Прекрасно выполненный художником-лириком пейзаж Русского Подстепья: «От трех посадских колоколен лежали длинные, косые тени, - отчетливо отражались на дороге их прорези
и пролеты с крутыми лестницами, с зубчатыми деревянными крестами и елками, уставленными в эти прорези и пролеты на случай святовских иллюминаций, со всеми колоколами – и маленькими, которые тонкими, печальными голосами зовут к печальным похоронным, или поминальным обедням, - и большими, звучно гремящими окрестным селам про настоящий праздник. С верху и до низу расписанные строгими лицами святых подвижников, обрамленных длинными, седыми бородами, с золотыми венцами на головах, поникших долу в благоговейных мыслях, церкви эти, почти во все дни обыкновенно запертые и, потому, как бы, неприступные, теперь останавливают на себе всякий глаз мягкостию тех красок, которые и на их святую величавость наложило праздничное утро».
«Один из лучших лириков в прозе» (оценка М. Горького), Александр Левитов, создавая свой лиро-эпический эпос о России, поэтически воплотил свои детские и отроческие воспоминания о «малой родине». Русь православная… О минувшей судьбе народной и державной красноречиво и выразительно напоминают соборные и церковные реалии: «Крупные, старо-славянские надписи, испещрявшие своими черными, ломаными буквами церковные стены, говоря о прошлой посадской жизни, полной бесчисленными пожарами, разореньями от своих разбойников, погромами от татар и всякими смутами, тяготами и бедами, выглядывают этим добрым утром как раз в лад всем этим мещанским хороминам, мужицким избам, разломанным плетням и раскрытым сараям, всегдашнюю сиротливость которых расцветил праздник, спустившийся с всегда прекрасного неба».
Философско-эпическое раздумье автора-повествователя: «Не пугая, а, как бы, поучая посадский народ, черные церковные надписи говорили теперь, с высоты ярко-выбеленных стен,
о прошедшем горе родной стороны, об ее испытаньях великих, о том, как крепкие, старинные люди отстаивали Русскую землю и русскую честь, не поддаваясь «ни прелестным речам пришлых сверху, от Москвы, разных лиходейских людей, ни лютому мечу злочестивых, поганских татар».
Память автора-повествователя (лирического и публицистического героя) как бы «реконструирует» летописно-церковные строки: «И прииде князь татарский Бетлибей_Мизгирь
с низу из-под Шатцка», рассказывала одна надпись, «и нападе с ратью многою на селище. И бе в селище том воевода храбр зело и нравом лют, подо бяся дивию зверю. И возрыкаше воевода, егда услышал есть от вестник своих про нашествие Бетлибеево, и рече воям предстоявшим: - полоните мне князя Бетлибея татарского, да узрю его живым и кровь из тела его идольского малыми каплями истощу. – И изняли вои князя Бетлибея татарского, и предаде его воевода злой смерти,
а по церкви сей, Спас-Преображение, в крепости что, исстари звомой, исконное писание и науку гишторию в лицах, с позолотою и с живописными хитростями, знатно пустил при Тифинской Божией Матери церкви поп Михайло Ангелов с сыновьями: Михайлом, Агафафангелом, да Борисом, да Львом – папою Рымскою, да Борисом же, по прозванию Могутайся, да Ильею, именуемым Еруслан, да с младшею дщерью ... сконча живот свой девичий на труде Божием, свержена будучи с церковных лесов некаким младым живописных дел подмастерьем Яковом Царским, зане та дочь попа Михайлы беззаконную любовь онаго Якова Царского отвеща веселым девичьим смехом и драла того подмастерья за чупрун»…
Особое качество левитовской поэтики – неуёмная метафоризация, одухотворение, «вочеловечение» всего сущего. «Живая жизнь» - у церкви, беседующей с окрестной дубравой:
«- Лес! – заговорила белая церковь вековым дубам, выстроившимся на противуположной стороне реки, - на твоей ли памяти случилась история та?..».
Левитовская философско-психологическая поэтическая «реконструкция» несёт в себе серьёзную историко-цивилизационную содержательность, глубокие ментально-культурологические обобщения: «…Силен был в те времена народ, гневен и крут: за всякую обиду дрались друг с другом смертным боем – либо ножами вострыми, либо кистенями тяжелыми, потому что в глухих степях и лесах наших судов тогда даже звания не было. Так разве кое-когда наедет подъячий из города, пристращает огнищан царских, соберет с них кое-чего по мелочи – и опять к себе домой в крепость укатит…».
Эпичен, философско-психологичен образ священника Михайлы: «…Его сам царь Петр Алексеевич, отпускаючи из Москвы с бароном Розовым в нашу глушь, целовал. Целуючи попа
в уста прямо, царь Пётр спрашивал у него: «поп Михайло! Хоша и в Москве ты мне, по своей грамоте, надобен, но отпущаю тебя в лес-дубраву, в Липецы, чугунную руду копать и над стройкой, к примеру, моих царских кораблей приглядывать. Скажи же мне, поп Михайло, как ты в той лес-дубраве орудовать станешь?» Отвечал царю поп Михайло: - «А стану я, ваше царское величество, в той лес-дубраве орудовать – кое место крестом, а кое – перстом»… - Принялся царь целовать попа за такой его ответ пуще прежнего и на дорогу ему из своих рук три голландских червонца отвалить изволил. Так-то вот! Попадья Михайлина те червонцы в свое приданое – янтарное ожерелье внизала, и я сам видел на попадье царские деньги, когда в Троицын день она, бывало, прихаживала ко мне…»
Трудно переоценить этико-эстетическое значение для краеведа художественно-документальных зарисовок, подобных левитовскому «Аховскому посаду». «Степные нравы старого времени», основанные на глубоком знании фольклорных и летописных источников,
пластически осязаемо предстают перед читателем-земляком, приоткрывая завесу времени, поэтически воссоздавая и реконструируя «земли родной минувшую судьбу»: «Недоумение старика-леса относительно многочисленных и простому, человеческому уму непонятных скорбей, которые допускаются Господом Богом на несчастную землю, разбито было в это время мощными колокольными звуками, поколебавшими разговаривающий с лесом храм, от самого его широкого основания до святых крестов, чуть видных в сизых, утренних туманах. На эти звуки откликнулись колокола двух других посадских церквей: сначала ударили в «соборе». И хотя, по общепринятому во всей России обычаю, соборный колокол должен и ранее, и голосистее подведомственных ему голосов возвещать наступление радостных, праздничных дней, но в настоящем случае дело произошло иначе: соборный благовест был предупрежден благовестом приходским, и предупрежден так, что двухсотпудовый бас приходского колокола, гремя над лесными, заречными дубравами и даже – как бы волнуя их, насквозь пронизывал дремучие чащи и будил их; между тем как жидкий, металлический тенор, певший с соборной колокольни, падая мелкою рябью в волны широкой реки, тонул там, и только редкие его ноты перелетали через реку, достигая таким образом до заповедных чащей лесных, где навсегда и замирал их, как бы, на что-то жалующийся стон».
Глубинные историко-цивилизационные процессы порождали разные типы степняков-индивидуальностей; прозаик-эпик воссоздаёт картины бродяжно-мятежной «вольницы», «раздольной лесной жизни»: «Грезился этим погибельным людям, вместо тенистых и туманных берегов Воронежа, на которых маячили они свою неспокойную жизнь, тихий Дон, с его зелеными косовицами, с его высокими, блистающими мелом горами. И увлекала этих людей краса светлого Дона все дальше и дальше: вела она их к пустынным прибрежьям Донским, издали светилась им ослепительно сверкавшими верхами каменистых гор, ласкала их тихостью жизни на этих неоглядных косовицах, на этих безлюдных горах и оврагах… Звонкий крик диких гусей и лебедей, реявших в высоком небе, затопленном солнечными лучами, предшествовал таким людям и, наконец, приводил их к гулкошумевшим зелеными камышами прибрежьям широкого Азовского моря…».
Ономастика, топонимика, гидронимика левитовских «Степных очерков» восходят к конкретным названиям, именам Русского Подстепья. Таковы, в частности, вплетенные в ткань художественного, изобразительно-выразительного повествования упоминания об «А н б у р е»
(местное название Р а н е н б у р г а): «…каковы в нонишнем году торги в Анбуре»… старался «по руке» определить настоящее качество торгов, только что кончившихся в Анбуре…». Выше уже говорилось о «тихом Доне», «тенистых и туманных берегах Воронежа», «Л и п е ц а х».
Л и т е р а т у р а: А.Силаев, В. Шахов. Певец родного края. Литературное наследие
А.И. Левитова. – Журнал «Подъём», Воронеж, 1959, № 6; А. Силаев. Лиры звон кандальный. Очерки жизни и творчества А.И. Левитова. Липецк, 1963; А.Силаев, В. Шахов. Некоторые новые данные о жизни А.И. Левитова (по материалам Тамбовского областного архива). – Журнал «Русская литература», 1965, № 2;Александр Иванович Левитов. Библиографический указатель. Составители В. Шахов, А. Воробьевская, 1976; Писатель-демократ А.И. Левитов. Библиографический указатель. Составитель В. Шахов, 1985.
с