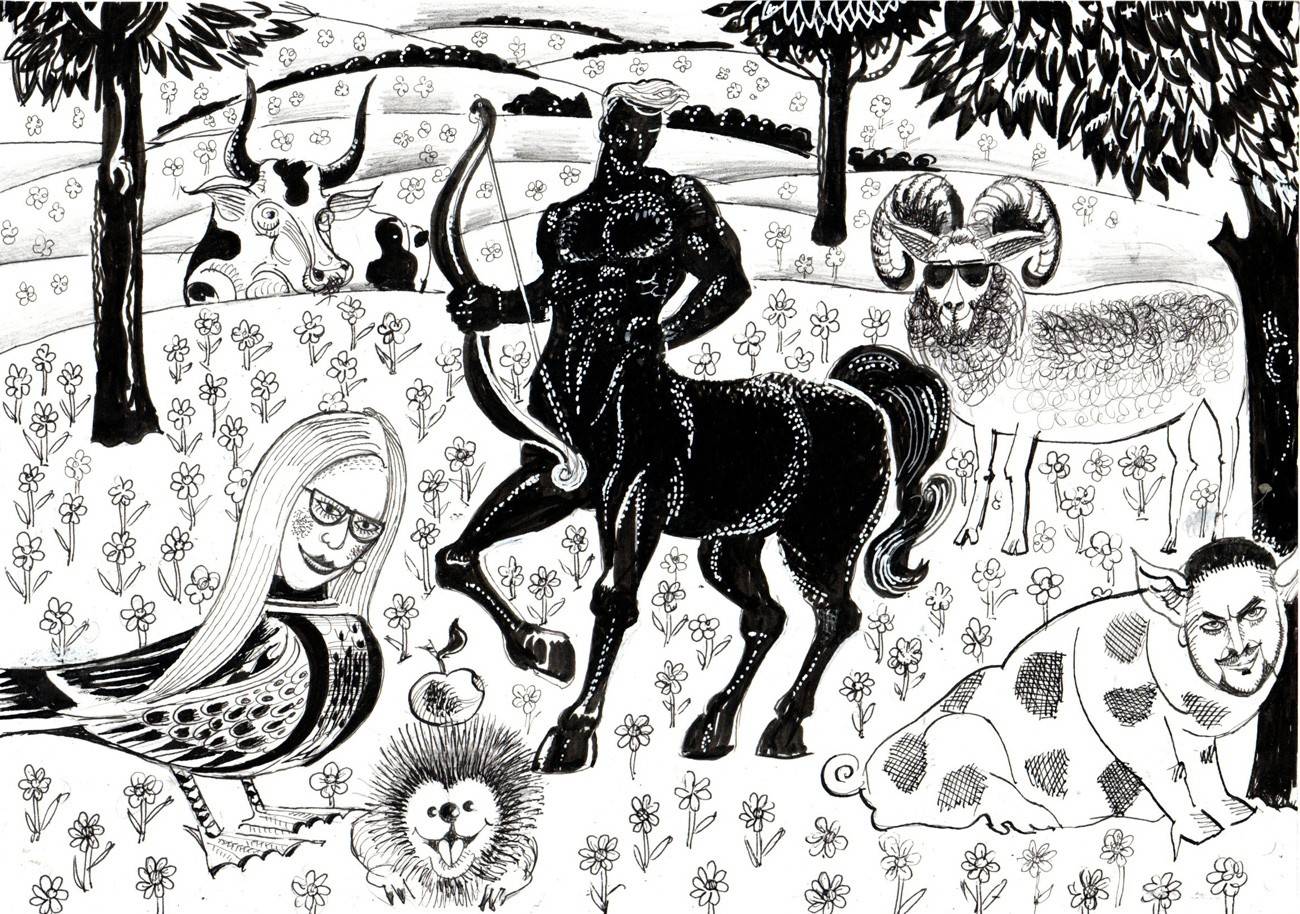«…Любимая его лошадь «Гнедая» плакала на его похоронах,
и с тех пор маменька приказывала запрягать ее только
в беговые дрожки, когда, сама правя, объезжала она поля,
сопровождаемая верховым старостою Степаном…»
Из мемуаров П. И. Бартенева (издателя «Русского архива»).
…Гляжу вперёд, остановив коня,
И древний человек во мне тоскует…
И в а н Б у н и н.
…Будто я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне…
С е р г е й Е с е н и н.
…Пронзительно-саднящие, взыскующие, чарующие своей философско-психологической глубиной есенинские строки-образы из «Сорокоуста»:
Видели ли вы,
Как бежит по степям,
В туманах озерных кроясь,
Железной ноздрей храпя,
На лапах чугунных поезд?
А за ним
По большой траве,
Как на празднике отчаянных гонок,
Тонкие ноги закидывая к голове,
Скачет красногривый жеребенок?
Милый, милый, смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?
Неужель он не знает, что в полях бессиянных
Той поры не вернет его бег,
Когда пару красивых степных россиянок
Отдавал за коня печенег?
По-иному судьба на торгах перекрасила
Наш разбуженный скрежетом плес,
И за тысячи пудов конской кожи и мяса
Покупают теперь паровоз…
«Слово о полку Игореве»… - «Или так бы пел, вещий Боян, внук Велесов: «Кони ржут за Сулой – звенит слава в Киеве»… И сказал ему Буй Тур Всеволод: «… Седлай же, брат, своих борзых коней, а мои готовы, уже оседланы у Курска…»
«Задонщина. Слово о великом князе Дмитрии Ивановиче и о брате его князе Владимире Андреевиче, как победили супостата своего царя Мамая». - «…Звенит слава
по всей земле Русской: в Москве кони ржут, трубы трубят в Коломне, бубны бьют в Серпухове, стоят знамена русские у Дона Великого…»
Устное поэтическое творчество русского народа одухотворило, вочеловечило коня как верного друга-сопутника землепашца, земледельца, сеятеля и воителя.
Из глубин тысячелетий – философия и психология «крылатого слова», пословицы, поговорки, присловья («Ржет конь к печали, ногою топает к погонке»; «Ржет конь на бору – хочет он ко двору»; «Ретивая лошадка не долго живёт»; «Выше меры и конь не скачет»; «Пешой конному не товарищ»; «На чужой лошади погоняй, не стой»). Быт и бытие русича, неразрывными нитями связанные с коневодством, запечатлели народные речения, причиндалы-подковырки («Збруя при рати недруга карати»; «Мажет Клим телегу, едет в Крым по репу»; «Кабы на коня не лысина, цены бы ему не было»; «Конь горбат, да не мерину брат»; «Куды конь с копытом, а рак тут же с клешней»; «Кума шла пеша, кумоням лехче»; «Лошадь в хомуте везёт по могуте»; «Корм коня лутче»; «Знай ямскую по столбам»). Поэзия земледельческого труда, «власть земли», «власть тьмы», «горе сёл, дорог и городов» - в сложных и противоречивых коллизиях, нашедших своё художественно-метафорическое выражение в пословицах и поговорках («Где конь, там и седло»; «Каков едет, таков и погоняет»; «Хто дорогою не хаживал, тот добра коня не жалует»; «Жаль коня любя себя»; «Конь молодцу, что копр огурцу»; «Жалеет коня – истомит себя»; «Два воеводы на одной подводе»; «Давно то пропало, что с возу упало»). Народная демонология, народные нравственно-ценностные ориентиры, «печаль не о своём горе», добротолюбие, человековедение – в сохранённых памятью поколений «сгустках», «завязях» духовно-гуманистических традиций, выраженных в афоризмах, фольклорных миниатюрах («Через силу и конь не скачет»; «Хомут худ, дуга тонка, а всем тоска»; « Ямщик в дороге пайщик»; «У притчи и на коне не уйти»: «У сивого коня воловая хода»; «Ходит что саврас без узды»; «Орать пашню – купить квашню»; «К пиву едется, а к слову молвится»).
«Толковый словарь живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля предлагает читателю целое «гнездо» омонимов ( лошадь, лошадка, лошадочка, лошадушка, лошадёнка, лошадёночка). По употреблению, лошади бывают: упряжные, верховые, коренные, пристяжные, дышловые, выносные (подседельные, подручные).
Владимир Иванович предлагает читателю-другу, книголюбу ( в дополнение к опубликованному ранее) собранные им пословицы (« Лошадь человеку крылья»; «Счастье не лошадь: не везёт по прямой дорожке»; «Он работает как лошадь» (т.е. усердно); «Возить воду, возить и воеводу»; «Лошадь (кобыла) с волком тягалась, хвост да грива осталась!»; «В ссуду жена никогда не дается, а лошадь – смотря по человеку»; «Нет такой лошади, чтобы не спотыкалась»; «На лошадь не плеть покупают, а овёс»; «Казак сам не ест, а лошадь кормит»; «Поедешь на той лошадке, что самого ездока погоняет»). Приметы: «Лошадь фыркает – к дождю»; «Лошади фыркают в дороге – к радостной встрече»; «Лошадь трясет голову и закидывает ее кверху – к ненастью»; «Зимой лошадь ложится – к теплу». Народная демонология: «Домовой (дедушка, суседко) лошади гриву завил»; «Лошадь ржёт – хоть обругай её, да здравствуй!»; «Двужильную лошадь зарывай на дворе, не то выпадет за нею ещё 12 лошадей»; «Видел мужик во сне хомут – не видать ему лошадки до веку!» Загадка: «Выше лошади, ниже собаки» (седло); «Две лошади белые, третья голая» (вздор). Фольклорный, устно-поэтический «комплимент» великой русской реке: Волга-матушка добрая лошадка: всё везёт!»
«Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля обстоятельно комментирует ономастическое «гнездо», относящееся к слову к о н ь (старинное комонь): рысак, стригун, тарпан, скакун, иноходец, жеребец, мерин. Диалектику народной души, поэзию земледельческого труда, сложные и противоречивые отношения крестьянина с «братьями меньшими» отразили сохранившиеся издревле философско-психологические речения, пословицы-афоризмы («Царство без грозы – конь без узды»; «Не конь везёт, Бог несёт»; «»Господь, коня и меня! Конь под нами, а Бог над нами»; «Конь мой вся моя надежда»; «Счастье на коне, безсчастье под конём»; «Хорош конь, хорош и детина»; «Чей конь, того и воз»; «Куда конь с копытом, туда и рак с клешней»: «Конь тощий – хозяин скупой»; «Корм коня дороже»; «Был конь, да изъездился»; «Весело коням, когда скачут по полям»; «Волк коню не товарищ»).
…Стихотворение «К о л е с н и ц а» (1793; 1804) Гавриила Романовича Державина. Пейзаж со «златой колесницей», мчащейся «по расцветающим полям» («Седящий, правящий возница, По конским натянув хребтам Блестящи вожжи, держит стройно, Искусством сравнивая их, И в дальнем поприще спокойно Осаживая скок одних, Других же, к бегу побуждая, Прилежно взорами блюдет; К одной мете их направляя, Грозит бичом иль им их бьет»).
Жанрово-стилевые особенности «изящной словесности» рубежа ХУ111-Х1Х столетий («Животные, отважны, горды, Под хитрой ездока уздой Лишены дикия свободы И сопряжены меж собой, Едину волю составляют, Взаимной силою везут; Хоть под ярмом себя считают, Но, ставя славой общий труд, Дугой нагнув волнисты гривы, Бодрятся, резвятся, бегут, Великолепный и красивый Вид колеснице придают… «Возница вожжи ослабляет, Смиренством коней убедясь, Вздремал…»). Читателя, обратившегося к
истокам русского литературного языка, чарует державинское образно-метафорическое слово.
…Художественный мир Александра Сергеевича Пушкина… Пушкинские кони… - («Верный конь узды не чуя, Шагом выступал; Гриву долгую волнуя, Углублялся вдаль» («Казак»). «Да слышен из дали глухой Булата звон и конский топот…» («Наездники»). «По дороге зимней, скучной Тройка борзая бежит, Колокольчик однозвучный Утомительно гремит» (« «Зимняя дорога»).
Предостережение-пророчество вещему Олегу «вдохновенного кудесника» («Твой конь не боится опасных трудов: Он, чуя господскую волю, То смирный стоит под стрелами врагов, То мчится по бранному полю, И холод и сеча ему ничего. Но примешь ты смерть от коня своего»).
Автобиографические художественно-документальные зарисовки: «До Ельца дороги ужасны. Несколько раз коляска вязла в грязи, достойной грязи одесской. Мне случалось в сутки проехать не более пятидесяти верст. Наконец я увидел воронежские степи и свободно покатил по зеленой равнине…» - из пушкинского «Путешествия в Арзрум во время похода 1829 года».
…У Ивана Сергеевича Тургенева есть написанный в 1848 году очерк «Лебедянь» (в «Записках охотника»). «Одна из главных выгод охоты, любезные мои читатели, - говорит автобиографический повествователь «Лебедяни», - состоит в том, что она заставляет вас беспрестанно переезжать с места на место».
… «Самый развал ярмарки». Базарная площадь с бесконечным рядом телег. Лошади боязливо косились на орущую толпу; важно вышагивали широколобые помещики с крашенными усами. На улице толпились люди всякого звания, возраста и вида: барышники, в синих кафтанах и высоких шапках, лукаво высматривали и выжидали покупщиков; лупоглазые, кудрявые цыгане метались взад и вперед, как угорелые, глядели лошадям в зубы, подымали им ноги и хвосты, кричали, бранились, служили посредниками, метали жребий; дюжий казак торчал верхом на тощем мерине с оленьей шеей и продавал «совсим», то есть с седлом и уздечкой; мужики, в изорванных подмышками тулупах, отчаянно продирались сквозь толпу. И всё это, повествует очеркист, возилось, кричало, копошилось, ссорилось и мирилось, бранилось и смеялось в грязи по колени.
У Тургенева было особенно развито чувство природы. О родных пейзажах: о дремучих лесах с торжественным гулом в вершинах деревьев, о хороводах белоствольных берёзок на краю оврага, о заливных лугах с многоцветной россыпью цветов – так поэтично могли говорить, кроме Тургенева, разве только Левитан в живописи да Чайковский в музыке. Иван Сергеевич был страстным охотником; неделями пропадал он, уезжая из своего имения Спасское-Лутовиново в соседние губернии – Тульскую, Московскую, Тамбовскую. Его сопровождал обычно егерь Афанасий Алифанов. Никто в округе не мог соперничать с Алифановым в «искусстве ловить весной, в полую воду, рыбу, доставать руками раков, отыскивать по чутью, подманивать перепелов». Герой очерка «Касьян с Красивой Мечи» занимается ловлей певчих птиц, но делает это «не на погибель их живота, а для удовольствия человеческого на утешение и веселье»; знает Касьян и как «кулички свистят», и как «зайцы кричат», и как «селезни стрекочут».
Признанный мастер русской словесности – Николай Семёнович Лесков в своём «Очарованном страннике» (1873) повествует об одном из «конных заводов», о его «конюшенной части»(«…конюшенная часть была ещё в особом внимании, и все равно как в военной службе от солдата в прежние времена кантонист происходил, чтобы сражаться, так и у нас от кучера шел кучеренок, чтобы ездить, от конюха – конюшонок, чтобы за лошадьми ходить, а от кормового мужика – кормовик, чтобы с гумна на ворки корм возить…»). «Крестьянский землепроходец» Иван Северьяныч Флягин вспоминает, как, живучи при отце на кучерском дворе, всю жизнь свою он проводил на конюшне, как маленьким ещё на четвереньках у лошадей промеж ног ползал, и они его не увечили, как он «постиг тайну познания в животном и, можно сказать, возлюбил коня» («Ужасно они степную волю любят»).
Удивительная философско-психологическая мелодика и пластика «Колокольчиков» (1854) Якова Полонскаго («Улеглася метелица… путь озарен… Ночь глядит миллионами тусклых очей… Погружай меня в сон, колокольчика звон! Выноси меня, тройка усталых коней!»). Лирический эпос его зарисовок «В степи» (1870-е годы):
(«В этом приволье степном, взяв на себя труд посильный, Шёл босоногий мужик, клячу свою понукая; Вытянув шею свою – кляча тянула соху, Из-под железа сохи черные глыбы валились, Около свежих борозд свежей ложась бороздой»).
С эпических времён Святогора, Вольги и Микулы-Селяниновича знакома русичу эта земледельческая, землепашеская панорама. Лирический герой (автобиографический повествователь) взволнован («Бог тебе в помощь, земляк!» - вымолвил я и подумал: Ум мой и руки мои, видно не в помощь тебе!»).Это волнение, «печаль не о своём горе» передаётся читателю («Остановился мужик – остановилась и
кляча. Он молча шапку стянул – кляча развесила уши И, помотав головой, потную морду свою Стала тянуть к мураве, и,, как лохмотья, повисли Спутанной гривы её космы до самой земли»).
Ономастика называет, аккумулирует значительное количество слов, относящихся к сфере коневодства, коннозаводства, к «биографии» лошадей. Юмористическая чеховская новелла «Лошадиная фамилия» - тому примером. Отставной генерал-майор Булдеев, испытывающий дикие зубные боли, озабочен спешным поиском фамилии врачевателя («…Такая ещё простая фамилия… словно как бы лошадиная… Кобылин? Нет, не Кобылин. Постойте, Жеребцов нешто? Нет, не Жеребцов. Помню, фамилия лошадиная, а какая – из головы вышибло…»). Перебирали эти самые «лошадиные» омонимы ( Жеребятин, Кобылицын, Жеребчиков, Лошадинин, Лошаков, Жеребкин, Лошадевич). В доме, в людской, в саду, на кухне люди ходили из угла в угол и, почесывая лбы, вспоминали что ни на есть «лошадиные» прозвания ( Коренников, Коренной, Лошадинский, Жеребкович, Конявский). Перебирали все возрасты, полы и породы лошадей, вспомнили гриву, копыта, сбрую ( здесь фигурировали: Коненко, Конченко, Тройкин, Уздечкин). Замученный генерал Булдеев обещал щедро, пятирублёвкой, поощрить «открывателя»; претенденты на награду называли Гнедова, Рысистого, Меринова, Буланова, Чересседельникова. Но кому посылать депешу о неотложной помощи было неизвестно. В финале психологической юморески совершенно случайно осенит одного из комических персонажей: искомый омоним, оказывается, - О в с о в…
…Есенинская «Пороша» (1914): «Еду. Тихо. Слышны звоны Под копытом на снегу… Скачет конь, простору много, Валит снег и стелет шаль. Бесконечная дорога Убегает лентой вдаль».
… Блоковское видение «преображения» России:
…Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами
Степную даль.
В степном дыму блеснет святое знамя
И ханской сабли сталь…
И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль…
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль.
И нет конца! Мелькают версты, кручи…
Останови!
Идут, идут испуганные тучи,
Закат в крови!
Закат в крови! Из сердца кровь струится!
Плачь, сердце, плачь…
Покоя нет! Степная кобылица
Несется вскачь!
7 июня 1908.
…«Конь блед» (май, июль и декабрь 1903 г.) Валерия Брюсова (1873-1924) с эпиграфом из «Откровения» (У1, 8): «И се конь блед и сидящий на нем, имя ему Смерть». Улица – «как буря»: «яростный людской поток», мчащиеся омнибусы, кебы, автомобили. – («И внезапно – в эту бурю, в этот адский шепот, В этот воплотившийся в земные формы бред, Ворвался, вонзился чуждый, несозвучный топот, Заглушая гулы, говор, грохот карет…Показался с поворота всадник огнеликий, Конь летел стремительно и стал с огнем в глазах»). Философско-психологическая символика брюсовской художественной пластики («В воздухе еще дрожали – отголоски, крики, Но мгновенье было – трепет, взоры были – страх! Был у всадника в руках развитый длинный свиток, Огненные буквы возвещали имя: Смерть… Полосами яркими, как пряжей пышных ниток, В высоте над улицей вдруг разгорелась твердь»).
В стихотворении «Работа» ( 18 сентября 1917 г.) В. Брюсов («Иди неуклонно за плугом, Рассчитывай взмахи косы, Клонись к лошадиным подпругам, Доколь не заблещут над лугом Алмазы вечерней росы!») («На фабрике в шуме стозвонном Машин, и колес, и
ремней, Заполни с лицом непреклонным Свой день, в череду миллионном, Рабочих, преемственных дней! Иль – согнут над белой страницей, - Что сердце диктует, пиши; Пусть небо зажжется денницей, - Всю ночь выводи вереницей Заветные мысли души!» («Посеянный хлеб разойдется По миру; с гудящих станков Поток животворный польется; Печатная мысль отзовется Во глуби бессчетных умов»). («Работай! Незримо, чудесно Работа, как сев, прорастет: Что станет с плодами, - безвестно, Но благостно, влагой небесной, Труд всякий падет на народ. Великая радость - работа, В полях, за станком, за столом! Работай до жаркого пота, Работай без лишнего счета, - Все счастье земли – за трудом!»
…«Хорошее отношение к лошадям» Владимира Маяковского («Били копыта. Пели будто: - Гриб. Грабь. Гроб. Груб. Ветром опита, льдом обута, улица скользнула. Лошадь на круп грохнулась, и сразу за зевакой зевака…»). Лирический герой – в философско-психологическом раздумье («Лошадь, не надо. Лошадь, слушайте – чего вы думаете, что вы их плоше? Деточка, все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь»). Полемический пафос финала («Может быть – старая – и не нуждалась в няньке, может быть, и мысль ей моя казалась пошла, только лошадь рванулась, встала на ноги, ржанула и пошла. Хвостом помахивала. Рыжий ребенок. Пришла веселая, стала в стойло. И всё ей казалось – она жеребенок, и стоило жить, и работать стоило»).
… Судьба людская – в лирической эпике Марины Цветаевой («Сладко вдвоём – на одном коне. В том же челне – на одной волне, сладко вдвоём – от одной краюшки – Слаще всего – на одной подушке» (1 ноября 1918). Соотнесённость «мира» и «войны». Разрушены бытовые «уюты»…Через «конскую судьбу» Марина Цветаева воссоздаёт судьбу «кровью умытой» России («Кровных коней запрягайте в дровни!.. Рвитесь на лошади в Божий дом! Перепивайтесь кровавым пойлом!.. Стойла – в соборы! Соборы – в стойла!..»).
…Философско-психологическое прозрение Велимира Хлебникова (1885-1922):
Когда умирают кони – дышат,
Когда умирают травы – сохнут,
Когда умирают солнца – они гаснут,
Когда умирают люди – поют песни.
«Липецким Есениным» называли Алексея Владимировича Каменского ( псевдоним – Алексей Липецкий). Его стихи, связанные с народной демонологией, мифологией, были известны
С.А. Есенину. Алексей Липецкий своеобразно трактует мифологическую тему «ночной кобылицы» в стихотворении «У моря» с оригинальными образами-метафорами («взмылены кони морей», «в бурном глубин клокотаньи», при «блеске огнистых зарниц» страстно тоскуют дети моря о земном чувстве («Им чудится тонкое ржанье Прекрасных степных кобылиц»).
Современный автор (певица, композитор Хелависа) в песне «Ночная кобыла» по-своему трактует «вечную тему» («Весна хмельная, весна дурная, Зачем ты вела до последнего края? Уделом смелых меня пленила. Что ты наделала, что натворила! Над жребием сильных, над древней страстью Нет-нет-нет – он был не властен. Река забыла, луна простила Кого сгубила ночная кобыла. Он шёл ночною, порой ночною; Весна забыла, река простила Кого сгубила ночная кобыла»).
Вольга и Микула
(отрывок из былины)
Когда воссияло солнце красное
На это на небушко на ясное,
Тогда зарождался молодой Вольга,
Молодой Вольга Святославгович.
Стал Вольга растеть-матереть;
Похотелося Вольге много мудрости:
Щукой-рыбою ходить ему в глубоких морях,
Птицей-соколом летать под оболока,
Серым волком рыскать во чистых полях;
Уходили все рыбы во синие моря,
Улетали все птички за оболока,
Убегали все звери в темны леса.
Стал Вольга растеть-матереть,
Избирать себе дружинушку хоробрую,
Тридцать молодцев без единого.
Сам ещё Вольга во тридцатых…
Молодой Вольга Святославгович
Со своей дружинушкой хороброю
Он поехал к городам за получкою,
Выехал в раздольице чисто поле,
Он услышал в чистом поле ратая:
Орет в поле ратай, понукивает,
Сошка у ратая поскрипывает,
Омешики по камешкам почеркивают.
Ехал Вольга до ратая
День с утра он до вечера,
Со своею дружинушкой хороброей,
А не мог он до ратая доехати.
Ехал Вольга ещё на другой день.
Другой день с утра до вечера,
А не мог он до ратая доехати.
Орет в поле ратай, понукивает,
Сошка у ратая поскрипывает,
Омешки по камешкам почеркивают.
Ехал Вольга еще третий день,
Третий день с утра до пабедья,
Наехал он в чистом поле ратая:
Орет в поле ратай, понукивает,
С края в край бороздки пометывает;
В край он едет, другого не видать;
Коренья, каменья вывертывает,
А великие все каменья в борозду валит;
Кобылка у него соловая,
Сошка у него кленовая,
Гужики у ратая шелковые…
Александр Сергеевич П у ш к и н (1799-1837)
Зимнее утро
Мороз и солнце; день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный –
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!
Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутном небе мгла носилась;
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела,
И ты печальная сидела –
А нынче… погляди в окно:
Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет.
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.
Вся комната янтарным блеском
Озарена. Весёлым треском
Трещит затопленная печь –
Приятно думать у лежанки.
Но знаешь: не велеть ли в санки
Кобылку бурую запречь?
Скользя по утреннему снегу,
Друг милый, предадимся бегу
Нетерпеливого коня
И навестим поля пустые,
Леса, недавно столь густые,
И берег, милый для меня.
3 ноября 1829.
Телега жизни
Хоть тяжело подчас в ней бремя,
Телега на ходу легка;
Ямщик лихой, седое время,
Везет, не слезет с облучка.
С утра садимся мы в телегу;
Мы рады голову сломать
И, презирая лень и негу,
Кричим: пошёл!.....................
Но в полдень нет уж той отваги;
Порастрясло нас; нам страшней
И косогоры и овраги;
Кричим: полегче, дуралей!
Катит по-прежнему телега;
Под вечер мы привыкли к ней
И дремля едем до ночлега,
А время гонит лошадей.
Конь
«Что ты ржешь, мой конь ретивый,
Что ты шею опустил,
Не потряхиваешь гривой,
Не грызешь своих удил?
Али я тебя не холю?
Али ешь овса не вволю?
Али сбруя не красна?
Аль поводья не шелковы,
Не серебряны подковы,
Не злачены стремена?»
Отвечает конь печальный:
«Оттого я присмирел,
Что я слышу топот дальный,
Трубный звук и пенье стрел;
Оттого я ржу, что в поле
Уж не долго мне гулять,
Проживать в красе и в холе,
Светлой сбруей щеголять;
Что уж скоро враг суровый
Сбрую всю мою возьмет
И серебряны подковы
С легких ног моих сдерет;
Оттого мой дух и ноет,
Что наместо чепрака
Кожей он твоей покроет
Мне вспотевшие бока».
Пётр Андреевич В я з е м с к и й (1792-1878)
Тройка
Тройка мчится, тройка скачет, Кто сей путник и отколе?
Вьётся пыль из-под копыт; И далёк ли путь ему?
Колокольчик звонко плачет, Поневоле иль по воле
И хохочет, и визжит. Мчится он в ночную тьму?
По дороге голосисто На веселье иль кручину,
Раздаётся яркий звон; К ближним ли под кров родной,
То вдали отбрякнет чисто, Или в грустную чужбину
То застонет глухо он. Он спешит, голубчик мой?
Словно леший ведьме вторит Сердце в нём ретиво рвётся
И аукается с ней, В путь обратный или вдаль?
Иль русалка тараторит Встречи ль ждёт он не
В роще звучных камышей. дождётся,
Иль покинутого жаль?
Русской степи, ночи тёмной Ждёт ли перстень обручальный,
Поэтическая весть! Ждут ли путника пиры?
Много в ней и думы томной Или факел погребальный
И раздолья много есть. Над могилою сестры?
Прянул месяц из-за тучи, Как узнать? Уж он далёко!
Обогнул своё кольцо Месяц в облако нырнул,
И посыпал блеск зыбучий И в пустой дали глубоко
Прямо путнику в лицо. Колокольчик мой заснул.
1834.
Прогулка в степи
Мой добрый конь, мой верный конь!
Люблю кудрей твоих огонь
И стать твою, и гордый рост,
И развивающийся хвост.
Люблю, красавец удалой,
Когда ты скачешь подо мной,
И мерный стук твоих копыт
Один в глухой степи звучит.
…Но утомился резвый конь.
Но простывает чувств огонь,
Все тише конь, все тише ум,
Стройней, плавней стремленье дум.
И вот свободный шаг коня
Качает сладостно меня,
Как легкой качкой челнока,
Когда чуть зыблется река;
Как мать заботливой рукой,
Чтобы младенцу дать покой.
Качает люльку, в коей он
Ей улыбается сквозь сон.
Свежеет вечер, мгла и тень
В степи сменяют зной и день:
Уж степь небес заселена,
Возникли звезды и луна.
Как в светлый праздник до утра,
Кругом ее, как вкруг шатра,
Горят потешные огни:
Как радостны в степи они!
И у меня на тайном дне
В сердечной, светлой глубине
Зажглися звезды чистых дум
И прояснился свежий ум.
Взошла поэзии звезда,
В руке ослабли повода,
И конь знакомою тропой
Чутьем поворотил домой.
1831.
Фёдор Николаевич Г л и н к а (1786-1880)
Погоня
- Кони, кони вороные!
Вы не выдайте меня:
Настигают засадные
Мои вороги лихие,
Вся разбойничья семья!..
Отслужу вам, кони, я…
Налетает, осыпает
От погони грозной пыль;
Бердыш блещет, нож сверкает:
Кто ж на выручку?.. Не вы ль?
Кони, кони вороные,
Дети воли и степей,
Боевые, огневые,
Вы не ведали цепей,
Ни удушья в темном стойле:
На шелку моих лугов,
На росе, на вольном пойле
Я вскормил вас, скакунов;
Не натужил, не неволил,
Я лелеял вас и холил,
Борзых, статных летунов.
Так не выдайте же друга!
Солнце низко, гаснет день,
А за мной визжит кистень…
Малой! Что! Верна ль подпруга?
Не солгут ли повода?
Ну, по всем!.. кипит беда!..
1837.
Нестор Васильевич К у к о л ь н и к (1809-1868)
Попутная песня
Дым столбом – кипит, дымится
Пароход…
Пестрота, разгул, волненье,
Ожиданье, нетерпенье…
Православный веселится
Наш народ.
И быстрее, шибче воли
Поезд мчится в чистом поле.
Не тайная дума быстрее летит,
И сердце, мгновенья считая, стучит.
Коварные думы мелькают дорогой,
И шепчешь невольно:»О Боже, как долго!»
Дым столбом – кипит, дымится
Пароход…
Пестрота, разгул, волненье,
Ожиданье, нетерпенье…
Православный веселится
Наш народ.
И быстрее, шибче воли
Поезд мчится в чистом поле.
Не воздух, не зелень страдальца манят, -
Там ясные очи так ярко горят,
Так полны блаженства минуты свиданья,
Так сладки надеждой часы расставанья.
Дым столбом – кипит, дымится
Пароход…
Пестрота, разгул, волненье,
Ожиданье, нетерпенье…
Православный веселится
Наш народ.
И быстрее, шибче воли
Поезд мчится в чистом поле.
15 июля 1840.
Евдокия Петровна Р о с т о п ч и н а (1811-1858)
Колокольчик
Звенит, гудит, дробится мелкой трелью
Валдайский колокольчик удалой…
В нём слышится призыв родной, -
Какое-то разгульное веселье
С безумной, безотчетною тоской…
Кто едет там?.. Куда?.. С какою целью?..
Зачем?.. К кому?.. И ждет ли кто-нибудь?..
Трепещущую счастьем грудь
Смутит ли колокольчик звонкой трелью?..
Спешат, летят!.. Бог с ними… Добрый путь!..
Вот с мостика спустились на плотину,
Вот обогнули пруд, и сад, и дом…
Теперь поехали шажком…
Свернули в парк аллеею старинной…
И вот ямщик стегнул по всем по трем…
Звенит, гудит, как будто бьет тревогу,
Чтоб мысль завлечь и сердце соблазнить!..
И скучно стало сиднем жить,
И хочется куда-нибудь в дорогу,
И хочется к кому-нибудь спешить!..
1853