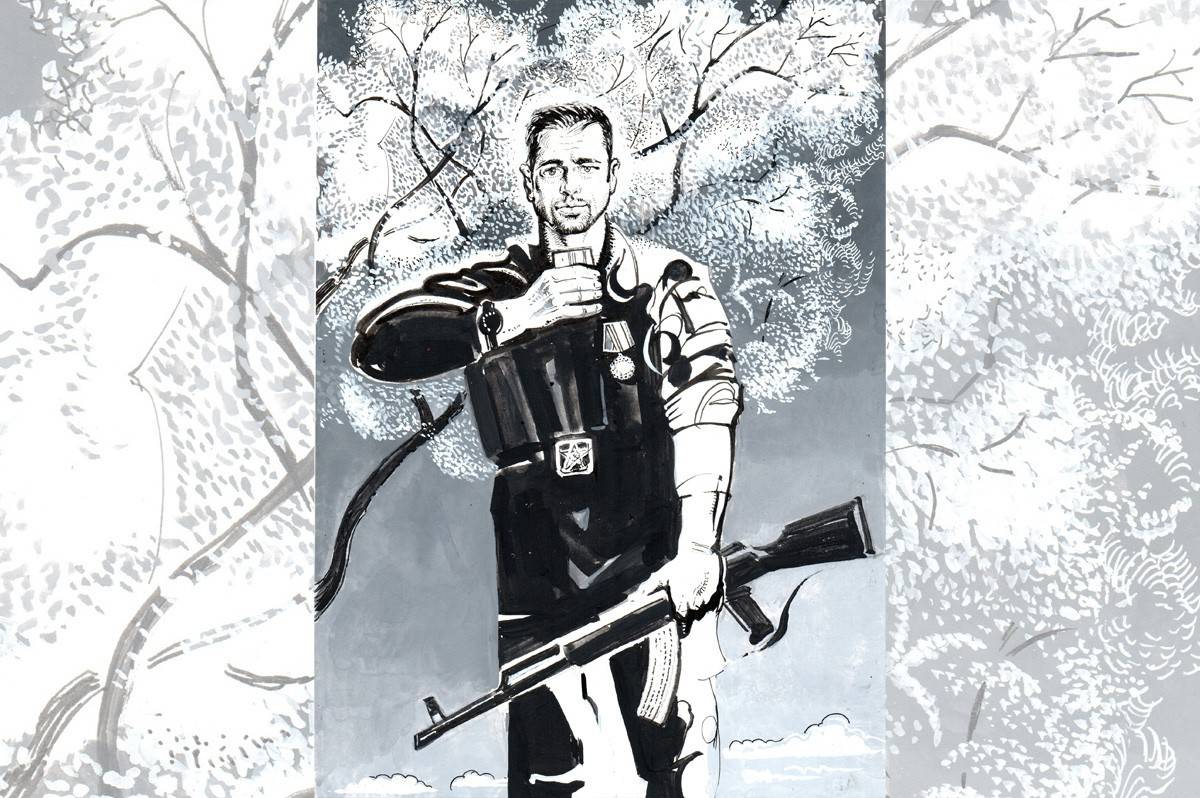двойной клик - редактировать изображение

двойной клик - редактировать изображение

двойной клик - редактировать изображение

двойной клик - редактировать изображение

двойной клик - редактировать изображение

двойной клик - редактировать изображение

двойной клик - редактировать изображение

двойной клик - редактировать изображение

двойной клик - редактировать изображение

двойной клик - редактировать изображение
РЕЧНЫЕ ПИСАТЕЛИ
Очерк о писателях В.П.Астафьеве и В.Г.Распутине
1.
Так случилось, что в двадцатом веке именно эти писатели взяли на себя ношу великой русской литературы, и, поразив своими книгами самых щепетильных читателей, стали настоящими классиками. Литература наша, всегда жившая живым, настоящим, исконным, отторгая город с его элитарностью и западными веяниями, обманула цивилизацию и проложила себе основное русло через Сибирь, – край, где русское ещё сохранилось нетронутыми очагами, как клочками местами оставался соболь после убийственного перепромысла в начале двадцатого века.
Сто раз говорено, что город, пусть самый красивый и значимый, – человечье детище и наследует все человечьи грехи. В отличие от него природа – творение Божие, именно поэтому такая мощь и исходит от неё, и, питая художника, она заставляет соответствовать, равняться, а иногда и выстраивать себя заново. Эта нечеловечья мощь ярче всего проявляется в сибирских реках, не только могучих на вид, но и важнейших по сути, поскольку от них напрямую зависит жизнь в этих суровых краях: это реки-дороги, реки-кормилицы, реки-учителя… И чтобы до конца понять двух русских писателей Астафьева и Распутина, надо хорошенько представить, что такое для Сибири реки Енисей и Ангара.
Итак, главный фарватер русской литературы прошел именно по этим великим водным жилам, за каждую из которых будто отвечал свой писатель – за Ангару – Распутин, за Енисей – Астафьев. Страшное географическое противоречие современной России – смещённость Центра к Западу, тогда как самые непостижимые и глядящие в будущее территории расположены от него далеко к востоку. Однако для таких людей как Астафьев и Распутин центр жизни там, где живут они сами, а главное – где живут их герои. Герои Астафьева, его необыкновенно личностной автобиографической прозы крепчайшими жилами привязаны к «Батюшке-Анисею». И мощь эта человечья, да и литературная, происходит именно от этой непостижимой реки.
До сих пор идут споры, что считать Енисеем: сам Енисей от Кызыл-Хэма или Ангару, вытекающую из Байкала и впадающую в Енисей вблизи Енисейска, удивительного города-музея, бывшей столицы Енисейской губернии.
Судьбы Енисея и Ангары и схожи, и различны. По этим рекам шло освоение Сибири с запада, по ним испоконно лепились станки, расположенные друг от друга на расстоянии, удобных для смены коней, и именно на этих берегах, прижатых тайгой к воде, и жила-развивалась русская жизнь со своими радостями и горестями.
Пожалуй, Енисею в борьбе с беспросветным человечьим бездушьем повезло больше, чем Ангаре, единственной вытекающей из Байкала реке, что, особенно с воздуха, поражает на выходе своей ясно-синей водой. В отличие от Енисея, прямого как труба, она по-женски разливиста, изобилует островами и протоками, и меж коренными берегами, называемыми матерόй (от слова материк), здесь необыкновенно широко. Она вся – как Енисей в Вороговском многоостровье – удивительном месте чуть выше впадения Подкаменной Тунгуски. Здесь, за знаменитыми скалистыми «щеками», непомерная ширь меж коренными берегами, а огромный разлив изобилует островами, протоками, тальниковыми поймами.
Покосы на Енисее – узкие полосы заливных лугов. Многие из них расположены далеко от посёлков, так что зимой ещё замучаешься сено вывозить на коне или снегоходе – дорог-то нет. Ангара в этом смысле идеальна для сельского хозяйства – огромные покосы прямо на островах, живи и ставь сено в одном месте и под боком. Именно на таком острове и происходило действие повести «Прощание с Матёрой». Протоки же меж островами образуют прекрасные рыбьи нерестилища, а сколько зверя в поймах, сохатого и всякой прочей живности – любой охотник позавидует! Живи не хочу. Недаром целый ангарский уклад сложился на этих красивейших берегах, необыкновенно яркий и крепкий. На Енисее, уходящем к Ледовитому океану, эта основательная нота прекращается – начинается остяцкий Север, где всё перебивает приполярная промысловая нота – охотничье-рыбацкая.
Лес на берегах Енисея разный, но в основном это кедрачи, ельники, лиственничники. Ангара же в основном светлохвойная, лиственнично-сосновая. Строевые сосновые бора на ней уникальны, и в этом-то оказалась беда её. Если по Енисейским деревням разрушительной лавиной прокатилось укрупнение, то Ангара подверглась еще налёту леспромхозного беспредела. Понаехало всякого народу, смешавшего-замутившего вековечный уклад, и названного в Распутиным в повести «Пожар» «архаровцами». В довершение в леспромхозы, где больше платили, – ломанулось население из колхозных деревень, особенно молодёжь. Бора вырубались, деляны все дальше забирались в хребёт, разгоняя зверьё. Не отстала и пора ГЭСов, на Ангаре их аж три шутки: Иркутская, Братская и Усть-Илимская. Да еще и Богучанская, за которую не так давно снова взялись энергетики и добили низ Ангары. Последнее это затопление – особенно трагическая страница в истории Сибири, и о ней отдельный разговор. Дело в том, что Богучанская ГЭС не так уж нужна Красноярскому краю – энергию предназначена для перегонки в Китай. А не для подъёма местной промышленности.
История стройки гидроэлектростанций и затопления деревень – одна из самых болевых тем Сибири. На Красноярском море есть такая традиция – каждое лето на пароходике едут жители затопленных деревень и над местом, где когда-то стояли их дома, поднимают стопочку, поминают прошлое.
Все это надо знать читателю, чтоб до конца понять великую боль Астафьева и Распутина за тот Божий мир, который даден человеку на уход и преображение, а в ответ получающий от него одно нерадение. Веками великих трудов и лишений наживался уклад и требовал одного – служения исконному и вечному. «Батюшка-Анисей» сам всё объяснит и скажет, – когда сено ставить, когда соболя бить, а когда селёдку промышлять. А ты не мудрствуй и слушайся, да смири гордыню, иначе будешь, как Гога Герцев, лежать в речке с проломленной башкой.
Разные реки Енисей и Ангара. Ангара представляется красивой и широкодушной женщиной, Енисей – мужиком с прямым и крепким характером. Но везде река как мера, как основа, а природа как учитель, как стержень, ведь именно ее годовой круговорот и руководит человеком, требуя лишь одного – быть её достойным. Это касается любого дела – и рыбацкого, и охотницкого, и плотницкого. И писательского тоже! И как прекрасно выравнивается жизнь каждого человека Енисеем или Ангарой! Как почётно и писателю быть таким же учеником, как простой ангарец или сельдюк, как герой «Царь-Рыбы» Акимка, для которого главный сюжет его жизни - – Енисей.
Вот как писал об Ангаре Валентин Григорьевич Распутин:
"Я верю, что и в моем писательском деле она сыграла не последнюю роль: когда-то в неотмеченную минуту вышел я к Ангаре и обомлел - – и от вошедшей в меня красоты обомлел, а также от явившегося из неё сознательного и материального чувства Родины".
И еще:
"Я уверен, что писателем человека делает его детство, способность в раннем возрасте увидеть и почувствовать всё то, что дает ему затем право взяться за перо. Образование, книги, жизненный опыт воспитывают и укрепляют в дальнейшем этот дар, но родиться ему следует в детстве".
2.
Поперечник России в районе Красноярья, то есть расстояниие от юга Тувы до Диксона на Таймыре около четырёх тысяч километров. Да разве кому-нибудь на западе придет в голову, что Смоленск и Мурманск, стоящие на одной долготе – части единого и строгого целого? А на родине Астафьева так оно и есть, Енисей – это один мир, одна территория, объединенное одной рекой-дорогой, огромной, крепкой, мужественной .
И писатель под стать Енисею такой же кряжистый, крепкий, мужицкий и в своих книгах насквозь речной – пароходский, лодочный, рыбный. Описанию различных рыбин и рыбалок посвящены многие строки его произведений. Сами названия за себя говорят: «Карасиная погибель», «Уха на Боганиде», да и «Царь-Рыба». Детство писателя прошло на берегах Енисея: от Овсянки на юге до заполярной Игарки – неплохим плечом длиной 1700 верст пролегла человечья судьба! Крепко, пуповинно перевязана она с великой рекой. Так крепко, что крепче не бывает: матушку писателя навечно забрали суровые воды.
Пересказывать Астафьева бесполезно, хочется дать главную ноту, отзвук, с каким прозвучал Виктор Петрович в лучших своих книгах «Последний поклон» и «Царь-Рыба». Нота эта так же разнообразна, как сам Батюшка- Енисей в разные времена года, в разную погоду. Но она всегда исповедальна, летописна, житийна. Она жива по законам лирики, и всё происходящее сугубо субъективно и пропущено через «я» автора. Она пронзительно поэтична и стихийна – а ведь было у кого учиться этой стихийной мощи, когда «Батюшка-Анисей» под боком!
Виктор Петрович не делил литературу на жанры и всегда в едином напряжениеми силы и честности писал о своём главном и в повестях, и в «Затесях», и в предисловиях. И так же звучал его голос в выступлениях. И как чередуется на Енисее сизый штормовой вал с зеркальной безмятежной гладью, так мешается в его произведениях то погибельная интонация довоенных рыбалок, то звонкая, как росистое таёжное утро, симфония жизни, то тихое, как белая ночь, откровение. И всегда его голос остается пронзительным, как возвращение молодого Витьки с войны к геологически постаревшей бабушке.
До чего сибирские реки огромны и, что ли, линейны! С парохода и, особенно, с вертолёта планетарно бескрайними выглядят плёсы, береговые линии, как по линейке выровненные непомерной работой воды и льдов. С галечниками, поймами, островами… Кажется, огромные ножи лежат, металлически поблескивают на солнце, наждачно синеют. Как побороть пером это величие, как подобраться к гладкой алюминиевой шкуре, не соскользнуть с алмазного лезвия плёса, как всверлиться, прокопаться, каким надфильком? Каким буром забуриться в двухметровый лед, чтоб заговорила речная громада, живым бугром пробилось слово, заходило по кругу, забирая душу? Никто особо и не пробовал – и вот Виктор Петрович впервые в истории взялся за Батюшку-Енисея. Только догадываться можно, как трудно ему было первому... И вот сделал он шаг, ступил из стальной параллельности в этот бурелом, чапыжник, «шарагу, вертепник или попросту дурнину».
С какой любовью Петрович разгребает эти приречные завалы, роется в тальниках, черемушниках, копается в самой мелочёвке, пытается разговорить Батюшку-Анисея через какого-нибудь ручейничка или другого бекарасика. А дальше пошло-потянулось, и раскручивается, как верёвочка, великая круговая порука всего живого, великий Божий круговорот – харюз съел ручейничка, харюзка – таймешок, таймешка человек поймал – голодных ребятишек накормил… А глаза поднимешь – надо всеми ними стоит приполярное небо вечной тишиной и учит художник высоте, любви и смирению, умению каждой красочке-веточке дать место.
Все-то у него сильное, говорящее, если речка – то угорело петляющая, если пелядка (рыба такая сиговая) – то аж вся жиром истекает… Все делается с порывом, размахом, повально – если уж рыба, то валит валом, если жрёт, то жрёт, комар если задавной – то задавной, и в этой одушевлённости природных сил небывалым образом енисейская душа и выражается. Есть целые породы здешних мужиков, которые именно так и говорят, и чувствуют, одушевляя все вокруг и в первую очередь Батюшку-Енисея. «Анисей воду взвел», «теперь обират с берегов»… – то есть обирает с берегов лед. Обязательно надо наделить природу волей, представить как некое огромное существо с гигантскими своими желаниями, хозяйственными заботами, по сравнению с которым человек мелочь, навроде ручейника.
Любимые герои Астафьева – дети Батюшки-Енисея, принявшие его правила, живущие по его законам. Такое верное и святое дитя – Акимка, весь искорёженный жизнью, с брюхом, присохшим к хребту ещё с голодного тундряного детства, весь побитый морозами, крученый, как полярная листвяшка из юности Виктора Петровича, и такой же несгибаемый, неказистый, тщедушный, но с огромной душой нарастапашку.
С великой нежностью относится Виктор Петрович к таким Божьим людям, которые будто на ладони со своими бедами-радостями. И не терпит обуянных гордыней, возомнивших себя сильней и независимей Бога. Гога Герцев вроде бы рукастый, опытный, тёртый и совсем не горожанин-белоручка. Он и с «тозовки» лупит отлично, и топорище у него ладное. Но нет, не пронять этим Виктора Петровича, поэтому и наказывает Гогу, этот персонаж-идею, даже не автор, а Батюшка-Енисей через одну из своих подопечниц-речек.
К слову: удивительно слабым и бесцветным выглядел фильм по одной из глав «Царь-рыбы» под называнием «Сон о белых горах». Эта несколько приключенческая история, в которой многие не желали узнавать Виктора Петровича, на самом деле тоже вполне его. Енисейские охотники были особенно тронуты и взбудоражены ею. Помнится, ещё во времена, когда население по-настоящему жило книгами, один из них с жаром говорил: «Не, ну ты представляешь, приходит мужик в зимовьё, а там баба!». Этот момент, жизненный и острый, уловил своим чутьем Виктор Петрович – каждый охотник мечтал о таком приключении. А фильмец получился и вправду слабый – больше всего убило, что «съёмшыки» даже поленились на Енисей слетать. Только в титрах идут осенние виды тайги, взятые с вертолета, похоже, где-то под Красноярском, может быть на любимой киношниками Мане. Остальное снято, скорее всего, в Карелии: европейская природа и совсем не походящий похожий на тайгу елово-сосновый лесок и бараньи лбы. Да и малоубедителен главный герой, крепыш Кононов, если я, конечно, не путаю. Никак он не вяжется с тщедушным Акимкой. Не спасает даже суконная куртка-азям, к которой зачем-то пришили какие-то прямо газыри для патронов – никто в жизни на Енисее таких газырьков не видывал. Ладно…
Не принявшие правила справедливости и добра – не обязательно пришлые на Енисее. Почти так же жестоко наказан ещё один герой «Царь-Рыбы», вроде бы уважаемый енисейский мужик Игнатич, который оказался вовсе и не таким образцовым, как думалось, а при ближайшем рассмотрении и вовсе гнилым. Это рассказ о грехе и возмездии. И человек здесь не победитель, как в «Старике и море», – а побежденный, посягнувший на неподвластное, наказанный за эгоизм и жадность…
Для тех, кто не знает – крючки самоловные штука действительно опасная, потому без ножа никто и не ездит на рыбалку – если вдруг подцепился в горячке – отмахнул коленце и спасён. Тема эта старинная промысловая, да и, если смотреть шире, жизненная – поставил ловушки, гляди сам не влети.
Самолов ставят на течении, крючки привязаны капроновыми поводками к хребтине – веревке с грузами, лежащей на дне. К крючку на симочке крепится пробочка, заставляющая крючок стоять, вибрируя на течении. На него и набрасывает струей стерлядку или осетра. Всё дело в движущейся, скользящей водной стихии – чтобы понять работу самолова, надо представить, будто не вода со стерлядками несется сквозь ловушку, а наоборот, неподвижную воду, полную рыбин, тралят крючки. Никакая стерлядка, конечно, не «играется» с крючками – это для красного словца говорилось стариками, хотя в старину даже красные тряпочки привязывали к крючкам – чтоб интересней было рыбе «играться».
Рыба протыкается крючком за тело и болтается на течении, рвя шкуру, пока её не снимет рыбак. На самолов в основном ловятся рыбы бесчешуйные – шкура легче протыкается крючком. Да и эта самая шкура у осетровых настолько крепка, что бывает скручивается у крючка в рямушку, но не рвётся, и рыба висит дольше долгого.
Памятник Царь-Рыбе по дороге в Дивногорск изображает осетра и раскрытую гранитную книгу Виктора Петровича. Только осетёр почему-то попал в сеть, а не в самолов (не думаю, что скульптор не знал тонкости, но возможно кто-то остерёг от изображения самолова, дескать, запрещенная снасть, лучше не лезть в эту болевую тему. Вдруг инспекция недовольна будет).
В прежние времена верёвка была не капрон, а обычная, гниючая, крючки - – ржавейка, и пробочки из бересты, самокрученные, а главное – ставили и смотрели ловушку на гребЯх, а не на моторе. Всё это было нелегко и требовало большого труда. Да и аппетиты другие были: рыбой никто не торговал, как сейчас, а добывали «поись». Нынче борьба совсем уж неравная – об этом неравенстве и писал Виктор Петрович.
Снулых (то есть не живых, погибших) рыб выкидывают – ими можно отравиться, был случай, когда один командир «Ми-восьмого», поев в гостях такой осетрины, начал слепнуть в полёте и еле посадил машину. Ему повезло: зрение вернулось – отравление оказалось не сильным. Обычно рыба на самолове гибнет от того, что ловушку редко проверяют, – если вовремя смотреть, ничего подобного не будет. Высмотру самолова могут мешать две вещи: сильный вал на Енисее или подошедшая рыбинспекция. Тогда рыба и пропадает. Мужики бухтели на Виктора Петровича, что сгустил краски, описывая самоловщиков. Долго обсуждалось, как «прописал неправильно», «во скоко выкинул снулой стерлядки!», «так не быват», «да и вообще нас браконьеров не понял» и так далее. Рыбаки-охотники любят, когда их жизнь описывают с дотошностью пособия по промыслу, да ещё и с одобрением и восхищением их трудом и образом жизни. Не на того напоролись. Астафьева с его обнаженной всеотзывчивой душой по сердцу резала жестокость этой ловушки, то что рыба мучается часами, рвя шкуру, срывается, калечится. И писателем руководила не жажда создать фотографической точности документ, а боль за Божью тварь и ненависть к хапужничеству.
Но ещё сильнее болел он, задавая главный вопрос: да почему на такой богатой земле так нескладно всё выходит, как в этой Шуши (селе Ярцеве вообще-то), где всего несколько машин, которые давят народ, и почему в поселке Бор, который стоит в таком прекрасном месте (это уже из «Затесей»), – такая помойка. Восхищение Божьим миром и горечь за нерадивость людскую – вот главные ноты его творчества.
У обоих писателей, и у Распутина, и у Астафьева, обостренно-кровное чувство «нашего» - – по по-другому и быть не может, если чувствуешь свою землю так, что сколько книг не пиши, а всё равно будто и не сказал ничего… Всё в начале пути – оттого-то и написано так много.
Мой любимый рассказ Астафьева – «Капля». Прочитайте его отдельно. День на него выделите. Отрешитесь от всего. Вот сейчас только перечитал в который раз – и снова накатило, когда подобрался к этой великой таёжной ночи на речке Опарихе, несколько раз останавливался, откладывал книгу… Когда читаешь подобное про Сибирь, душа приходит в такой трепет, что кажется: нет уже авторства у этих слов – а есть нечто необъятное, наше общее с писателем, и что эти огромные слова существовали вовеки… И в который раз ты вместе с Астафьевым встречаешь это пронзительное утро, подкравшееся так незаметно за размышлениями о главном.
Необыкновенно тонко описаны все состояния тайги, причем обязательно как единого целого, как круговорот взаимообязанностей. За версту слышно неловко севшую в дерево – копалуху (глухариную мамку). Крохаля, сплавляющиеся по речке, озадачены костром и настороженно перекликаются. В тайге бывает издали слышно, как копалуха или глухарь садится в дерево – этот звук жизненно значим для охотника: когда собака осенью на охоте поднимает глухаря, необыкновенно важно, улетел он или все-таки сел?
Крохаля – есть на таёжных речках такие рыбоядные утки с клювом, как пилка, только мягоньким – почуяв-увидев костер, будто их скравшего, начинают беспокоиться, переговариваться: подмечено это необыкновенно тонко. А сова! Которая уменьшилась, оплыла, прижав перо к телу! В каждой такой строчке – целый огромный мир, целая картинка, и одна жалость, что полностью дооценить может лишь тот, кто всё это сам пережил. Жаль этих людей тех, кому не повезло, но зато у них есть возможность с чистого листа представить себе картину так, как подскажет им воображение.
И снова читаешь, со светлой завистью отмечая слово «сеево»:
«Серебристым харюзком мелькнул в вершинах леса месяц, задел за остриё высокой ели и без всплеска сорвался в урёмную гущу. Сеево звезд на небе сгустилось, потемнела речка, и тени дерев, объявившиеся было при месяце, опять исчезли».
И дальше: «Чуть приостановив себя на выдавшейся далеко белокаменной косе, взбурлив тяжелую воду, батюшка Енисей принимал в себя еще одну речушку, сплетал её в клубок с другими светлыми речками, речушками, которые сотни и тысячи верст бегут к нему, встревоженные непокоем, чтоб капля по капле наполнять силой вечное движение.».
Длилась, нарастала эта светлая таёжная ночь, и всё шли на подъём переживания души и так работало сердце, что наконец почувствовал человек «вершину тишины!» Как сказано и как описано это чувство – чувство вершины, чувство перелома, когда и сам человек не в силах долго оставаться на острие переживания и должен знать меру, посильность и цену великого.
И вот огромное с маленьким смыкается и достигает наступает предела, когда повисает капля, готовая обрушить весь мир. Со всей силой пережитого на войне писатель чувствует погибельное состояние мира, и молит каплю, сияющую на талиновом листе, повременить… Потому что она, как символ Божьей гармонии и красоты сияет и держит этот мир в сохранности. Хрупкая, как добро. Но как сказал замечательный батюшка из Новосибирска отец Феодосий: «Если бы не было добра и Бога, зло давно бы победило». Не случайно разговор с каплей происходит, когда спят ребята, за которых Петрович в ответе, спит Земля, и Виктор Петрович будто бдит этой белой таежной ночью, охраняет сон планеты, всех её ребят, глухарят, хайрюзят…
И дальше он говорит о том, что человек нарушил гармонию - – это «моя душа» посеяла тревогу – а в природе всё покойно и мудро… И дальше следует потрясающее описание копалухи – это именно она тогда шумно садилась в кедрину. Она не просто полетела, а размять крылья, ведь она на гнезде сидела. И тут целая симфония круговой поруки начинается – и про птенцов, и про то, как трогательно присела птица на пол поклевать прошлогоднюю кислую помятую брусничку. И сразу кажется, будто сам маленький голодный Витька предвоенной весной эту брусничку в Игарской лесотундре клевал, как та копалушка. И вот она снова на яйцах: «горячим телом, выщипанным до наготы, она накрыла яйца, глаза её истомно смежились – птица выпаривала цыпушек – глухарят».
И незаметно за душевной работой подошло утро – и засветились тысячи капель, торжествующим сиянием жизни, и спустя четверть века пораженный этим сиянием автор благодарит Бога, что его не убили на войне, что дожил до этого утра.
Тем тайга и сильна, что именно здесь и происходят такие открытия. И везде исполняется великим круговоротом Божий замысел, везде извечные тайны: забота взрослых о маленьких, кормежка, тепло. И незримо присутствует бабушка писателя с кажется даже загробной её заботой – о маленьких Витьках, Ваньках, Петьках, не по-детски угруженных жизнью, брошенностью, голодом, ревматизмом… Это книга «Последний поклон». Её тема – круговая порука всего сущего, справедливость и благодарность. А гениальный рассказ «Конь с розовой гривой» – является потрясающим образцом православного повествования. Специально не буду пересказывать этот рассказ о прощении и покаянии. Его читать надо.
Чувство земли родной – это единственное, что может двигать настоящим русским писателем. Через окружающий Божий мир познается эта земля, через природу и почему-то обязательно через мир растений – по-моему, никто с большей любовью и вниманием не писал о них, как Виктор Петрович. А его чувство осеннего огорода, кровное и глубинно крестьянское, земляное и предковое.., оно у него врождённое. И доведены до священнодействия осенние приготовления к зиме - – подчищение жизни, приборка, и заготовка. Здесь и подведение итогов, и успокоение, и волнение от надвигающейся долгой зимы, которую еще и пережить надо. «Долгая и стойкая зима-прибериха снегами и морозами заклинивала деревенскую жизнь» – какой ритм потрясающий - – и по звуку, и по смыслу. А года голодные были – капустка за лакомство токо уходила. Мелочи часто говорят больше, чем лобовые слова – именно в способности писателя подмечать подробности любимого мира и является нам его щедрость, способность дать место любой травинке. И вот корова в огороде осеннем стоит и недоумевает, что же произошло – еще вчера её в три шеи гнали отсюда, орали, хозяйка носилась с прутом. А сейчас успокоились… Действительно, вот и осень. И бык на Енисее запенился белым подбоем, и гуси пролетели мимо, потому что негде им присесть в скалистых местах астафьевской родины. С ноткой извинения сказал-позаботился писатель об усталых гусях, что из таймырской тундры летят за тысячи верст на зимовку, чтобы весной снова вернуться.
И в рассказе «Пир после победы» навсегда остался Астафьев мальчишкой, очарованным мирозданием. Как пронзённый войной вернулся домой, и идет по левому (по течению) берегу Енисея, чтоб потом переправиться в Овсянку… И у речки Караулки забредает в бакенскую избушку к двоюродному своему братишке Мише. Радость, встреча, разговоры, а потом они ловят в сеть тайменя.
Виктор Петрович описывает этого тайменя две страницы. Открывает, как дитя, поражённый, как дитя, его мощью, красотой и, его смертью, и его угасанием. Увеличивая до бесконечности, словно слои снимая, описывает так и сяк его плавник, жабры, каждую крапинку. У него вообще много про угасание ленков и тайменей…
Смерть рыбины после войны он сам, насмотревшийся смерти, уже видит по-другому – не как убийство, а как добычу. И в том облегчение.
А дальше следует «Последний поклон» – завершающий рассказ, который так и стоит в конце книг эталоном прекрасного, нравственного, непреходящего. И когда добираешься до встречи-прощания с бабушкой, дождавшейся внука с войны – читать почти невозможно – настолько сердце разрывается от простых этих слов. Вот какой строгости и силы набрал Виктор Петрович в лучшей своей книге!
Своей главной ноте Астафьев верен во всех произведениях и в потрясающем завещании-обращении к молодежи – «верю и надеюсь, что вы будете достойны и нашей памяти, и той прекрасной планеты на которой выпало нам жить, а вам продолжать эту жизнь».
Астафьев – писатель-поэт, писатель-летописец. И тема летописи – постоянная боль об жизненных изменениях, потому что, как даден ребенку изначальный мир детства, так и кажется, что должен он быть незыблемым. Этой очарованностью детством и болью за рушащуюся жизнь пронизаны все книги Астафьева. Они и нас, читателей, наполняют извечным светом – и через бабушку, и через маленького Витьку, который красоту и горечь жизни так трудно и самоотверженно пронёс через свою долгую судьбу. И не зря бабушка читает Молитву Оптинских Старцев – в конце рассказе «Пеструха», посвященному Валентину Распутину.
3.
Ангара с еще той кристальной водой, с какой она вытекает из непостижимого Байкала, словно отражает характер прозы Валентина Григорьевича Распутина и ту кристальную четкость замысла, с которым он воплотился в одной из лучших повестей двадцатого века «Последний срок». Схожи названия произведений двух писателей: в книге «Последний поклон» тоже слово «последний» стоит на первом месте. И объединяет эти произведения исповедальность последнего рубежа – подведение великой черты, ответственность и почти непосильная глубина.
Вот что пишет о детстве писателя И.А.Панкеев в книге «Валентин Распутин. По страницам произведений»: Родился Валентин Распутин 15 марта 1937 года в Иркутской области, в поселке Усть-Уда, расположенном на берегу Ангары, в трехстах километрах от Иркутска. И рос в этих же местах, в приютившейся неподалёку (по сибирским меркам), всего в полусотне километров от Усть-Уды, деревне с красивым, напевным именем Аталанка. Этого названия мы не увидим в произведениях писателя, но именно она, Аталанка, явится нам и в "Прощании с Матёрой", и в "Последнем сроке", и в повести "Живи и помни", где отдаленно, но явно угадывается созвучие: Атановка. Природа, ставшая близкой в детстве, оживет и заговорит неповторимым своим языком в книгах. Конкретные люди станут литературными героями. Поистине, как говорил В. Гюго, "начала, заложенные в детстве человека, похожи на вырезанные на коре молодого дерева буквы, растущие, развертывающиеся с ним, составляющие неотъемлемую часть его". А начала эти, применительно к Валентину Распутину, немыслимы без влияния самой Сибири – тайги, Ангары; без родной деревни, частью которой он был и которая впервые заставила задуматься о взаимоотношениях между людьми; без чистого, незамутненного народного языка. В большом автобиографическом очерке одной поездки "Вниз и вверх по течению", опубликованном в 1972 году (по сути, самостоятельной повести), Распутин опишет свое детство, большое внимание уделяя именно природе, общению с односельчанами - – тому, что считает определяющим при формировании души ребенка и его характера.
Сознательное детство его, тот самый "дошкольный и школьный период", который дает человеку для жизни едва ли не больше, чем все оставшиеся затем годы и десятилетия, частично совпал с войной: в первый класс Аталанской начальной школы будущий писатель пришел в 1944 году. И хотя здесь не гремели бои, жизнь, как и везде в те годы, была трудной, временами полуголодной. "Для нашего поколения был очень труден хлеб детства", - – отметит спустя десятилетия писатель. Но о тех же годах он скажет и более важное, обобщающее, что найдет затем отражение в его творчестве: "Это было время крайнего проявления людской общности, когда люди против больших и малых бед держались вместе".
Ещё и то, что хотел стать учителем. Тоже важный штрих, объясняющий какую-то постоянную атмосферу ответственности в его творчестве, сдержанность и внутреннюю дисциплину. Астафьев бурен, стихиен, по-речному и по-таёжному буреломен, Распутин собраннее, каноничнее, и Ангара его будто сознательно лишена сибирского колорита и подведена под русский классический эталон. Словно говорит писатель: не до экзотики нам, когда речь идет о главном. Конечно, говорить о какой-то сдержанности или отстраненности можно то только в кавычках, только как о внешней манере – будучи настоящим русским писателем, он необыкновенно субъективен, неравнодушен и беспощаден ко всем свои героям. Кого любит, тех уж любит, кого нет – того нет.
Все ангарские беды – и леспромхозы, и гидроэлектростанции – Валентин Григорьевич пропускал через сердце, на каждую потерю откликался повестью. А ведь только такой и может быть настоящая наша литература: больно, когда видишь, как обращаются с твоей землей, – хоть пришлые, хоть свои – больно так, что и сказать нельзя, а надо. Необходимо. Иначе жить зачем. А Сибирь, – это страна, которую не то что местный – и приезжий, раз увидев, уже не может не полюбить. Чехов, пораженный Красноярском, с надеждой и восхищением писал об этом месте в своем дневнике во время путешествия на Сахалин. Она воистину Божий подарок, эта земля, поэтому таким физически ощутимым горем отдавалось в сердце обоих писателей каждая её рана.
Повесть «Последний срок» – произведение строгое, четкое и абсолютно совершенное, и при этом столь же жизненное и непридуманное. У каждого писателя, и я в этом уверен, она вызывает правильную писательскую зависть: - ну как же он подсмотрел такое? Как увидел? Или подсказал кто? Ну как же повезло писателю! Как берег такое счастье, как боялся уронить, не ошибиться, дотянуть до самой высоты! Какое испытание!
Меня всегда удивляла критика, дотошно разбирающая характеры Анны и её детей, наряду с тем, что сама задумка произведения воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Давайте задумаемся: да как вообще писателю такое пришло в голову? Именно это и представляется главной загадкой. И дело в именно в том, что ситуация, легшая в основу повести, – такая, с которой каждый человек обязан столкнуться в своей жизни. Особенно у нас, в Сибири, где расстояния огромные – и как быть, если заболел близкий, и надо ехать, и не отпросишься с работы надолго, и самолёты не летают добром? И как попасть, прицелиться сквозь такие расстояния? Не промахнуться? Вроде сюжет-то простой, на земле лежит, под ногами. А Распутин один разглядел. И поднял. Это самое сложное.
Поражает и старуха Анна, изжитая до «последнего донышка» с её приятием смерти, с великой мудростью и смирением и потрясающе-выпуклые и жизненные образы детей, ничего не понявших в их собственной матери. Врезаются в душу они с детства и на всю жизнь: и горожанка Люся с ее показной и фальшивой «культурностью», оборачивающейся полной душевной черствостью, и простоватая Варвара, и Илья, скользящий по вершкам, и Михаил, самый духовно близкий матери человек, и, конечно, загадочная Танчора.
Захватывает и центральная история с пьянкой, полная горького юмора, и контрастирующая с ним кровная любовь автора к старухе Анне, с которой они сливаются в философских монологах старухи перед смертью. Ведь, говорено, что никому не дано знать, что думает человек перед смертью. Так сколько же сам Распутин передумал-испытал, пока писал! И подумаешь – воистину великое перерождение испытывает художник, пройдя через такую книгу, такую задачу. Произведение это истинно многослойно и дает такой простор для размышлений, что откладываешь книгу и замираешь, чтоб дать сердцу передых.
Пересказывать повесть вряд ли стоит, поэтому позволим обратиться к ещё одной вещи Распутина, которая в контексте наших дней наводит на самые горькие выводы.
Речь идет о книге «Прощание с Матёрой», широко известной и у нас, и за рубежом. При существующей ситуации с Ангарой об этой вещи спокойно говорить невозможно. Повесть эта посвящена страшной странице сибирской истории – трагедии затопления, в результате ходе которого населения целых деревень насильно переселялись на другие места, а опустевшие дома сжигались и горели кострами с внеплановой символичностью. Такую судьбу пережили жители Енисея выше Дивногорска.
Трагедия попрания векового уклада, неспособность руководства видеть главное и полное небрежение к судьбам своих трудовых граждан – это одна из непреходящих тем нашей последней литературы. Когда вышла книга «Прощание с Матёрой», когда вся страна смотрела фильм с тем же названием – было ощущение великой силы искусства, силы писателя, способного прокричать об ужасающей несправедливости, о преступлении против Отечества. О том, когда ради чего-то сиюминутного и имеющего весьма условную выгоду, ломается самое главное для любого народа – традиция. (А возможный ущерб от ГЭСов и ту опасность, которую они представляют в случае чрезвычайной ситуации, вряд ли кто-то из их сторонников просчитывал.). И в те далекие годы, когда страна внимала этому крику писателя о беде, всем казалось, что в этом и есть задача искусства – повлиять на существующую действительность и если не остановить происходящее, то хотя бы предупредить, предостеречь людей от грядущих ошибок.
Это оказалось заблуждением. То, что сейчас произошло с Ангарой – возобновление строительства Богучанской ГЭС, – тому свидетельство. То, о чем прокричал Распутин, происходит годы спустя с фатальной настойчивостью. Так же переселяли людей, только с большей жестокостью, так же сжигали деревни, так же плакали жители Кежмы и многочисленных поселков и деревень Ангары.
С горечью хочется подвести черту и сказать: ничему не учится человек, никакая самая гениальная литература не может остановить разрушительную энергию человека, и встаёт перед писателем вопрос: а зачем тогда нужна литература, если она ничего не в силах изменить?
И одолеть это сомнение и отчаяние можно только через глубочайшее смиренье перед своей долей-задачей русского художника, который во все лихолетья чувствовал ответственность и обязанность быть летописцем, плакальщиком и защитником родной земли и всегда учился силе у простых людей. И у своих героев, таких, как старуха Анна и Дарья, таких, как Витькина бабушка из «Последнего поклона» Катерина Петровна.
…………………………………………………………………………….
И в продолжение рассказа о реке Валентина Григорьевича приведу сказы ангарки Альбины Мамаевой. Пусть эти весёлые истории, полные народного юмора и неувядающего жизнелюбия оттенят минорный строй нашего повествования.
Мамаева Альбина Романовна родилась на Ангаре в деревне Дворец Кежемского района Красноярского края. Долгое время работала в Туруханске. В настоящее время живет в Красноярске.
АЛЬБИНА МАМАЕВА
О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ ТРОЙНОГО ОДЕКОЛОНА
Болтуринска больница. Врачебнай кабинет.
- Здорова, Андреевич! Проходи поближе, садись.
Андреевич устроился на самом уголочке, ноги в грязных кирзачах спрятал под стул:
- И тебе не хворать...
- А говорил, скрось проспиртовался, никака зараза тебя не возьмёт.
Андреевич сконфузился:
- Да, паря, ково-то шибко прижало...
- Ну, давай направленне, поглядим, хто чево с тобой... Ково глазами-то хлопашь, в вашем медпункте-то был?
- Был. Фершалице всё обсказал, мол в правом боку шибко болит, какэсь под рёбра подпират. Она пошшупала, признала печень. А потом возьми да спроси, пил ли нет я дикалон...
Игоревич похвалил нову медичку:
- Молодчина, даром што молода, а сразу смикитила чё к чему!
- ... Дак вот! Я к ней вить пошёл, штоб к тебе отправила проверитца. А как она спросила про дикалон, я думаю, почево мне направленне, ковды тройнова дикалону и дома хочь залейся?! Пить даки я ево сроду не пил - пахнет шибко, брезговал как-то. А старуха-то им и коленки к ноче натират, и грудь шоркат и к голове прикладыват... Вся уж пропиталась! С ней рядом стоять-то неможно - дикалоном захватыват! Я через это с ней спать перестал, в куть ухожу на лавку.
Дак она чё, стало быть не здря натиратца? Дура-дура, а лекарство-то правильно нашла! Бегу домой, думаю, счас я тебе прочишшу норки-то, будь ты трижды проклята! Кака сквалыга! На себя за эстоль годов-ту пожалуй уж боле ведра выпатрала, а мне пузырёк пожалела!..
Игоревич было со стулу упал, кое-как удержался, штоб не рассмеятца, едва выговорил:
- Не убил старуху-то?
Старик облегчённо вздохнул и по-сурьёзному ответил:
- Бох отвёл. Она в избу-то зашла, дак я к тому времю уж флакон опростал и на лавке ляжал, корчился...Сроду эдак нихто не болело… Тебе признаюсь – с белым светом попрошшался… Дак она, родна моя, по всёй деревне выбегала, подводу искала да на Болтурин сама привезла...
А к тебе я думашь почево зашел? Счас-то навроде отошло, но ты мне всё же подробно пропиши, на гумажке, до еды нады пить дикалон-то или опосле? И, главно, по сколь зараз можно? А то я заторопился, у фершалицы-то не выспросил... Счас не знаю, то ли мало выпил, то ли лишку хватил?.. Отчево-то вить скрутило же меня...
ПИЛЮЛИ ХОРОШО, А САМОГОНОЧКА НАДЁЖНЕЙ.
Кума Галина минут десять стeкалась в дверь к Арине.
- Она кака змея, хто с бабой-ту заспелась? Аришка, ты ково не отворяшь?
Потопталась на крыльце, обошла кругом избы:
- Жёлта в рот, нады идти звать мужика… пушай дверь ломат ли ково ли…
Галина побежала к воротам, да услышала, бытто брякнул засов на дверях. Оглянулась - Арина выползла из сеней на крыльцо. Она было отворила рот (видать хотела ково-то сказать), да задохнулась. Кое как прокашлялась и давай причитать:
- Оно хто чево деетца, она кака на меня навалилась неоколедима? Другу неделю в худых душах лежу. Сроду едак по-долгу-ту не вылёживалася, день-два – да опеть на ногах, Христос со мной.
Галина врыссю подскочила, подхватила старуху под локоть:
- Святдух Восподней! Ты где едак-ту сжабалась? Морозов-ту ишшо не было, не у лешака ли простыла?
- Видать половики аукнулися. Лето-то со мнучатами высидела, не стиралась. Как што не добра хозяйка стала… Хватилась эвот к осене… Грязны вить в зиму не оставишь…
Арина сташшила с головы косынку, утёрла пот со лба. Повела гостью в избу. Галина не могла унятца:
- Ты, кума, не одичала ли? Неуж на реке шоркалась?
- Дак где боле-то? Кружки-то в бане перестирала, а половик вить в бане не выстирашь… Все три вышоркала да выполоскала… Шутка в деле?!
- Ва-ай, дефка, правду што к старосте-то всё кругове да кругове стаём. Тёплой лопатины-то у тебя уж стало быть нету? Обнишшала наготово…
- Дак оболоклась-ту бытто во всё тёпло. А сабоги новы куды-то упеточила… И в анбаре и в завозне всё перебутырила - нигде не трафилась! Наткнулась на други, оне не шибко же давношны. Так-ту тоже целы были, а в воду забрела – оне, прокляты, побежали. Пушше-то ознобила леву ногу, дефка, пальцы-то какэсь скрючило. Кое как выдюжила. Дак всю ночь согретца не могла.
Галина слушала куму, надивитца не могла, у ней ково с головой-ту заспелось? Сроду круговой-то не была…
- Ты счево эка беспута-то? Нады было баню истопить да прогретца…
- Дак вот, про баню-ту не ума! На утро все губы обметало, закахыкала не на белай свет. Кишки уж с етим кашлем надцадила, всё нутро болит. ЗдохнУть не даёт…
- Дак умом-ту подумала бы – на реке-то уж забереги, по каку змею в воду ползти?! В наши года берегчись нады, како уж нонче здоровье?! ТАк-ту адва ползашь…
Арина махнула рукой:
- Можно было бы, дак неуж я бы поташшилась с нимя? Да зимой в избёнке-то какэсь околеванне, все углы промерзают. Половик-от не натянешь, дак ноги без катанок на пол не спустить. А грязны стелить – стыдовишша…
Арина опустилась на койку.
- Гляди-ка, сколь поразговаривала а из сил вышла. Вот до чево обуродовалась. Задохнулась вся… Хуже работы…
- Лежи-лежи, не ставай. Я тут подберусь маленькя, то уж в грязе заросла, - Галина подоткнула ей подушку, штоб половче лежать было, окинула ноги шалью.
- Дак как, родима, не зарастёшь? Ноги несколь не дёржат… Обессилела наготово. Вечёр голову обнесло, сяла мимо стулу, да сколь время стать не могла…
Арина опеть зашлась в кашле. Отдышалась кое как:
- Вот возьмёт кашель – свету белово не вижу!...Какэсь стала никуды не годна… Вся худа до бокаря…
- Обессилела она… Неделю не видались, а от тебя половина осталася, кожа да кости. На глазах таешь… Ешь пушше! Это уж последне дело – себе в рот жалеть!
- Я вить не нарачи морю себя. Некак ись не могу, ни на ково аппетиту нету. Брюхо-то какэсь в узелок завязалось – один пряник и тот не воходит…
Тут уж Галина запереживала. Это видано ли, штобы Аришка от еды отказывалась?! С малолетства солошша была… Однако худо дело-то… Вправду хворат стало быть, не приставлятца…
- Нады ково-то делать, кашель-от у тебя шибко худой… Давай-ка я тебе печь русску истоплю. А как натопитца добром, оболокайся в полошубок да залезай на печь. По добру-ту нады бы стаканчик пропустить, штоб всё нутро пушше прогрелося. Два-три дни едак пропотешь и на ноги станешь. Ей Бох, несколь не вру! Сама напрохот лечусь.
- Вай, Галя, я как на тебя ране-то не трафилась, счас бы уж оздоровела… На днях фершалицу стукнула в окошко (годами её не вижу, а тут откуль-то лешай привёл!) Знаю вить, что лень отылая, никово в болестях не понимат, нет – слушаю её!!! Как морок на меня навалился. Она вывалила все пилюли, сколь в ридикюле было. Вить некак я от неё отвилять не могла! Думай-ка - всю пензию на порошки издержала! Ишо и не хватило… дак она выручила - в долг записала… Дай ей Бох здоровья!...
Галина сперва замахала на неё руками, потом перекрестилась:
- Ради Христа, ты не окружала ли? Ты ково эту фершалицу-то слушашь?! Ты рот разинула, а она рада-радёшинькя - ей вить толькя бы с тебя денег поболе содрать.
- Дак она меня ково-то шшупала же, какэсь всюё - с головы до ног… градусник за пазуху запехала. Потом к простуде ишо и давлення како-то у меня нашла… - Арина призадумалась, - А ты, родима, не знашь про давленне-то, хто это чево? Сроду без нево жили, откуль чаво взялось?
Галина пожала плечами:
- Дак лешак знат, хто это… Счас за ково не схватись, все сплошь с давленнем с этим. Дак и молоды-то с ним маются, не то што чево...
- Да, родима, выручила ты меня опеть… Я-то кругова, хотела по фершаличку ково-небуть посылать…
- Ариша, ты счево ека простодыра-то? Она вить как придёт, дак от неё скоро-то не отвяжесся, опеть ково-небуть навелит… До седых волос дожила, а всё как челядёнок всем веришь…
- Кабы знатьё, дак я счево бы тратилась-ту? …Христы тебе в рот, буду своими средствами лечитца.
Арина полежала. Видать всё же решилась:
- Ты, родима, печь-ту растопишь, дак сползай в пополле - там в картошках четверть с самогонкой стоит. Отлей в литрову стеклянку. Думаю што один полошубок мне мало пособит, шибко чижало хвораю. Не дай Бох како осложненне привяжетца… Придётся, паря, опружить чекушечку-другу…
Галина за разговорами прибралась в избе, распехала по углам черепки. Выскочила в сени по голик. По путе из баку зачерпнула ковшиком воды – хотела брызнуть на пол… Да видать полно отхлебнула – вода-то не в то горло пошла… какэсь было захлебалась!
- Вай, кума, дак я однако тоже ково-то запокашливала… У тебя болесь-то уж не заразна ли? Фершалица-то никово не сказывала?
- Она ково знат, тунгуссе отродде? Ково-то насобирала про мои болЕсти… Счас-то уж понимаю, што нарочи меня пужала, штоб поболе лякарствов набрала… А сёравно боюся одна дома оставатца… Лешай знат, не дай Бох, вправду кака немочь привязалась?
- Не кружай, я вить тебя не брошу, стало быть лешай с ней, с управой… Никуды не уйду, докуль не уснёшь. А то после чекушки-то как бы тебя опеть не обшатурило… Или, не дай Бох, за половик запнёсся… долго ли, раз ноги не дёржат? Ишшо захвоснёсся в своёй избе.
- Ох ты моя родна, я оздоровею, дак рашшитаюсь с тобой… Всё же веселе, как жива душа рядом…
- Я счаво с тебя плату-то возьму!? Мы ведь не чужи с тобой! Разе толькя самогоночкой угостишь, дак я не откажуся… Уж до чево самогоночка-то у тебя крепка!.. Сама знашь, я окроме черёмушново пива-то в рот никово не беру, но тебе пособлю…
Кума Галина врыссю побежала по дрова…
Прошло часа три. Печь истопилась. Баушка Арина прогрелась. Самогоночки в стеклянке осталось рюмки на две, отсилы - на три…
Старухи раскраселись. Опружили ишо по стопочке и затянули песняка.
Ну до чево дошла ета кума Галина! Всё-то она знат! Гляди-ка, раз прогрелась и на ноги стала!
РАЗВЕДКА ПОДВЕЛА
Зина в огороде полола гряды… Откуль проклята травишша берётца? Какэсь задавила! Ишо неделю помешкать – дак морковь-ту не натти будет. Нет бы девок нарожать, всё бы по хозяйству помогали. А этих разе удёржишь – скочили к отцу в лодку, имя хоть трава не расти… Мужики оне и есь мужики… Лишь бы куды-нить убежать…
- Мужики-то у тебя дома-нет?
Зина было упала в борозду… Схватилась за поясницу (болит, проклятушша), кое-как разогнулась. От воротцев подходил кум.
- Тьфу ты, будь ты проклятой! Тебе сколь раз говорить, штоб не подкрадывался?! И ково бытто ходишь выглядывашь? Ково вынюхивашь?
Николай Иванович кашлянул в кулак:
- Ты чё, оглохла? У тебя ворота-то скрыпят - однако на Болтурине слыхать…
- Дак ты один не старисся … Как рябок бегашь… Не изработался бывать…
Однако промашка вышла… Здря брякнул про уши-то. Счас осердитца, никово не поразговаривам… Нады задабривать, а то у Зинки не заржавет - живо выпрет из ограды.
- Н-но, Зинаида, я вить шутейно. Дак где мужики-то?
- Дак ловушки глядеть поехали. Давно уж…
Зина утёрла фартуком руки:
- Пошли на крыльцо, посидим маленькя… Поясница какэсь отламыватца, пушай отойдёт.
Кум достал процыгар. Постукал по нему паперёсой, закурил.
- Они где ставят-то? Далёко? Как думашь, ковды воротятца?
- А я почем знаю?! Всё ставили в Кашиной. Вода-то нонче больша, худо попадало. А счас где-то у лешака. Как уедут – так часа на четыре…
- Уж сроду не поверю, што тебе не сказывают? Крадчи ездят ли ково ли?
- Нет. Никово не сказывают. А оне тебе почево, мужики-то мои?
- Да хотел Ивана позвать, мотор поглядеть. Фыркать фыркат, а никак не заводитца…
- У тебя бытто новай мотор-от? Неуж худой? Одно лето не проездил, а он уж напарухался! Мой-от ижир выжил, тоже хочет двадцатисильнай брать… К тому лету, дас Бох, накопим… Нады ему сказать, раз никуды не годны, дак непочево и брать…
- Чё здря говорить, мотор хорошай. Да на новом в кажду дыру ездить – ево на долго ли хватит? Не на «Вихре» же ехать морды глядеть. На вёслах опеть руке чижало. «Ветерок»-от самай раз. А он возьми да выйди из строю…
- Гляди-ка на нево, паря, какой барин! Ишшо выбират, на каком моторе куды ехать! Давно ли окроме бечевы да вёсел никово не знали?
- Да-а-а-а… ково и говорить? Счас внучат-ту в лавку без мотоциклу ни за каки деньги не отправишь. Меньшим и тем лисапед давай! Исповадили на нет…
Маленько помолчали. Николай Иванович поднялся:
- Не слыхала, бытто моторка пристала… Пойду-ка на угор, згляну - не твои ли подъехали…
Постоял на угоре, повертел головой туды-суды… Опеть подсел к ней:
- А ты не видала, оне в каку сторону уехали? Там из-за Большово кака-то моторка выскочила. Глаза-то худы стают, не вижу, можеть твои едут?
- Не-е-ет, не мои… Оне вверхь побежали. Я за имя выскочила на угор, докуль Болтурин не прошли, всё глядела стояла…
Хто чево с Зинаидой заспелось? Хоть клешшами из неё вытаскивай… Нады стало быть с другой стороны подъежжать…
- Дивья Ваньке, зять-от ему из городу всяких ловушек привозит. Тут хвастался - какой-от спиннинг приташшил. Не ево поехали опроведывать?
- Не-е-е…
Николай стал выходить из себя!. Неуж придётца напряму спрашивать?
- Дак оне товды с чем поехали? Я было подумал, раз вверьх, дак в Кособыцку шиверу удить …
- К лешаку ети спининги да удилишши… одно баловство… Никово не спрашивай! Ваня мне не велел никому сказывать чем рыбачат… Сам знашь, што добры-то ловушки запрешшают ставить.
- Што ты, што ты! Я тебя почево выпытывать-то буду? Из меня уж какой рыбак? Так спросил…
- Вот-вот… Ты уж не сердись, кум. Я было хотела порасспрашивать, дак он слова сказать не даёт! Дескать мне лучче не знать, а то, мол, с твоим языком черезь час вся деревня знать будет. А на завтре наши самоловы кругом облепят… Сам знашь, какой нонче народ-от зарнай… А Ване охота было сколь-нибудь осетринки на илимки продать. Новай-от мотор на каки деньги брать?!
- Ну уж это он здря-я-я!... Ты ведь не беспута про свои-то ловушки всем болтать. Но, паря, Ваньча дак Ваньча! Он счево это про тебя эдак-ту говорит?
- Не бай! Наготово окружал к старосте со своёй рыбалкой. Ты вить меня не первай год знаш, уж сроду никому никово не разболта-ла…
Николай ишо посидел, подумал:
- Сиди-не сиди, идти нады… Старуха-то потерят…
- Ну иди… Мне тоже нековды рассиживатца… Пойду ужну направлять…
Дошел до ворот, оглянулся:
- Дак говоришь часа по три-четыре их нету?
- Едак-едак, то и боле… Ты не сторожи… Подъедут, дак я самово-то отправлю. Починит твой «Ветерок».
- Ково он по ночам-ту набегат? Пушай отдыхат. Сам направлю…
- Стой-ка, Иванович! Агаша сказывала, у вас огурцы-то худо растут, ишо и не разговелись. Счас я по кошель сбегаю, нарву тебе. Пушай со сметанкой накрошит…
Николай Иванович чуть не врыссю бежал к своёму Серёге… Как знал – завернул к Ваньке-то! И подфартило, што ево дома не было…
Не врут, што завалились красной рыбой-то… А я всю голову изломал - где на неё трафились? Во-о-он чаво, сколь близко ли лешай водит… Отчаянны - не боятца!..
Да!!! У Ивана вить свояк-то в рыбнадзоре работат!.. Ему ково боятца? Свояк все ходы-выходы знат! Как с катером суды соберутца, уж Ивана-то в перву голову известят…
Докуль не стемняло, пойду к парню, пушай собиратца… Поедем самоловы ставить.
«Беднай Ваньча… Де толькя и нашел свою Зинку? Одново бы долгово языка за глаза хватило, дак она ишо и простодыра… Эвон, пол-кошеля огурцов набуровила! Нет бы посолить, зимой бы не одну выть омманули… А ей лишь бы кому-нить навелить. Вся худа!!! Я бы свою за тако дело пропесочил, штоб другой раз оглядывалась… Один треплетца, копейку зарабатыват на мотор, а друга всё распрасорить готова!
А я-то? Не здря войну в разведке прошёл! Эвон как вытянул из неё… Ума-то нету. ШалабОлка!»
«Слава Бох, ушёл, думала не спровадить будет сёдни… - Зина выглянула в улицу – вправду ушёл или ишшо ково выглядыват? Нет, бежит. Торопитца самоловы ставить. Ну-ну, беги хлешше. Рыба-то в реке вся стоит, тебя дожидатца!
Ты думай-ка ишшо он какой! Завыпытывал да заподговаривался… Уж бытто я наготово ума решилась – счас побегу об своих ловушках всёй деревне рассказывать! Не-е-ет, кум, сам поезди да поишши!»
СБОРЫ НА ОХОТУ
Василий не стал дожидатца ужну. И не то штобы шибко торопился – боялся што Лидка захватит ево в избе и заставит ково-нибуть по хозяйству делать. Кое- как похватал со сковородки и побежал в избушку. Жалезна печка в углу протопелась, он подбросил шшепья. На улице ишо не холодно, можно бы и без печки… А Васька любил штоб она топелась. Лучче дверь открыть как жарко станет…
Сбегал в завозню. (Он сроду не ходил, всё боле врыссю бегал!) Достал с вешалов сетушку. Обругал себя за лень - сразу нады было выбрать да вытрясти! Счас занятца – это сколь времишша уйдёт?! На скору руку тут же ошмоктал траву… Стряхнул… Докуль аппетит есь, нады хочь одну починить – не увидишь, как весна подскочит.
Натянул сеть черезь всю избушку из угла в угол. Оглядел. Обобрал остатки сухой травы. Бросил на пол стару теплушку. Сял на неё, подобрал под себя леву ногу… Ох и любил он один посидеть с ловушками!.. В печке тлеют уголья. Тепло. Тихо. Главно Лидка с тёшшей не досажают с разговорами. Руки сами ошшупывают стень … находят дыры… деревянной иглой с намотанной ниткой тут же надвязывают ячеи… Он кажну дыру наперечёт знат… Откуль взялась, хто порвал… - от тут ершишка всё в кучу собрал, пришлось ножиком вырезать… А тут шшука… Какэсь скрозь пролетела, да в режь запуталась!… Ох и кобыла была! Докуль вытаскивали, лодку было опружила! А Лидка из неё опосле целай таз фаршу навертела. Всю родню снабдила шшучьими котлетами.
Нонешно лето рыбы везде хватало… Плавежом хорошо добыли. Грех жаловатца…
… Но, паря, ишшо не башше! Тут што за прореха, откуль взялась?
… А-а-а, тут задёва была, никово сделать не могли… Да-а-а, нады померековать, как ловче зашить…
Думал бы и думал об рыбалке… Душа отдыхат…
Тут дверь отворилась. Оглянулся – сват Михаил.
- О! Думал свежи, а тут всё те же! Садись, раз пришел.
Сват снял шапку, об колено стряхнул с неё снег. У порогу присел на низеньку скамеечку.
- Дак, паря, тебя разе дождёсся? Сам-от сроду не придёшь.
- От моих баб куды выскочишь? Здохнуть не дадут, всё у них кака-то работа!
- Ври да не завирайся! Шибко-то захотел, дак вырвался бы на час-другой. Гляжу, паря, ты самай раз за сетушки-то взялся…
- Да, думаю, нады починять по-маленькю, докуль времечко есь.
- Оно у тебя откуль, время-то? Дён черезь семь-восемь нады в ухожье быть. Про осеновку-то не забыл?
- Мне долго ли собратца – толькя подпоясатца! Вечер – два и готово!
- Эка, паря! Сколь не скорай ли ты! Всё-то у тебя наскоком. Как на охоту идти, так собак кормить! Завтре штоб как штык у меня был!
- Да я завтре было собирался ехать макчёнов сачить. Садок уж направил…
- Не хошь со мной охотничать - езжАй, сачь. Ты, сват, гляди – я без свяшшика не останусь, толькя свистну - счас же прибегут…
- Дак я умом-ту думал, ишшо рано… Ланись на неделю пожже уехали…
Сват хлопнул себя по голяшкам:
- Ети ево дивизию мать!!! Тебе сколь говорено, што нонешнай год в лес поголу попадать нады!? Давай шшитать, раз мне не веришь.
Михаил взялся загибать пальцы:
- В ручье заездок загородить нады? Раз! Слопцы да кулёмки наладить – два. Капкання насторожить – три! У зимовья угол стал промерзать, мохом утыкать нады… Дров напилить… Я ково тебе рассказываю?! Сам не знашь?!
- Ты, сват, на меня шибко голос-то не подымай! Я тоже не челядёнок. Подсобирываюсь. Эвон, в завозне весь угол завалил. Тёшша уж бурчит ходит, черепки негде складывать.
- Дак как не заревёшь?! С весны тростил, што этот год поране уедем. А нонче видишь, ково погода-то делат? Снегу навалило, местами уж какэсь по оборину. Это хорошо, што зимовьё на рёлке - можеть не шибко занесёт. Ты ишшо тут со своими макчёнами… Тебя вить не сразу поймёшь, шпанишь ли вправду говоришь…
Мало-помалу сват остыл. Достал из процыгару паперёсу. Закурил.
- Вчерась кособыцких стретил. Были на тракторе у нашево зимовья. Ходят там два сохатых. Не уйдут, дак с мясом нонче будем. Я уж из-за чево пушше-то и тороплюсь.
Василий спиной прислонился ко стене, прижмурился:
- Не поверишь, а я сплю и вижу беличьи курёнки… от никако мясо за них не нады…
- А мне оне даром - што есь, што нет. Я уж надеюсь на свежатинку. Мне дак лишь бы сохатина была… Слашше мерзлятинки никово нету! Наипаче печёнка… - Михаил закатил глаза, поцокал языком: - Никаково шшикаладу не нады…
- Этот год корму в лесу хватат. Птица будет. Можеть пальника стрелим.
- Всё ничево, вот на сохатово-то у нас собаки добрай нету. Мой Буран без сучки на зверя ни за што не пойдёт.
- Да, Яковлевич, я вить сёдни свою сучонку в лес водил, опроведывал!
- Ну и как она?
- Да ничаво… Повизгиват.
- То и есь, што повизгиват… Одно слово – первосёнок. Учить нады.
Посидели, покумекали. Без доброй собаки кака охота?
- А ты не слыхал, Трофимович нонче в лес не собиратца?
- Какой ему лес?! Вечор стреч идёт – кожа да кости… Не знаю, чем дюжит. Тово гляди – кондрашка хватит. Он тебе почево?
- Да у нево сучка-то лесова, вышколил её куды с добром. Как думашь, дас-нет? Счас попуте зайду к нему. Мяса за собаку посулю – не откажет.
Михаил достал из карману измятый листик гумаги.
- Я тут список приташшил, ково тебе направить нады. Всё забудешь. Первым делом провьянт погляди. Стиунец-то как, годнай ишшо?
- Дак как? И двустволка… Обои почистил и смазал. Я уж их настую…
- В прошлом годе у твоих лыж юксы худы были. Не заменил?
- Всё наладил. И камасья проверил. Я нонче с лета взялся собиратца. Тёшша и та не отвертелась - заставил новы кокольды связать да накухтарник пришить. У поняги ремни стары заменил. Бокари новым подшил и головки смазал. Постегонку и ту взапас взял. Ково ишшо нады?
Михаил прикурил нову паперёсу. Маленько подымил.
- Мужики болтают, счас каки-то китайски фонари пошли, шибко хороши. Ни у ково не видал?
- От тебя, паря, никово не утаишь… Никак не хотел тебе заране казать… Лидкин племянник мне екай фонарь на подарок летось привёз из Красноярску. Я было просмеял ево – почево он в лесу-то, толькя парнишке на чечки… А после разобрался чё к чему! Никакой ланпы не нады ни в избе, ни на улице - красотИшша! Карасин припасать не нады. А до чево далёко с ним видать!.. Не поверишь - какэсь што днём идёшь… Думал как в лесу достану из яшшика, вот ты глаза вытарашшишь!!!
- Да, паря, тут ты меня опередил! Поглянетца, дак закажешь напрок своим, пушай ишшо один посылают, – Сват поднялся, одел шапку, - Вот завтре заходи, подобьём бабки. А я с утра дойду до приседателя. Нады в колхозе коня просить. На чём в лес-от попадать будем?
Михаил уж отворил дверь, да не утерпел, наказал строго-настрого:
- А ты собратца-то соберись, а в яшшики не складывайся. Я сам сперва погляжу ладом - можеть ково не хватат, да где ково исправить нады. Во вторник пойдём в лавку, харчей наберём. Вскладчину! Деньги взять не забудь. А в середу уж крайно нады выежжать.
Васька не успел устроитца на своём месте, опеть скрыпнула дверь. Сват! Забыл ково-то сказать, чё боле-то?
- Ну, товариш, я уж наравне с тобой закружался. Почево бытто заходил? Давай кажи, каких лекарствов в лес набрал?
Василий заюлил:
- В завозню идти неохота. Завтре захвачу с собой, всё равно к тебе идти…
- Ты мне не виляй! Знаю я твою моду – всё напослед оставлять.
- Да говорю тебе – к завтрему всё складу!
- Тебе вить толькя Лидке сказать, она сама всё складёт…
- Она бытто почём знат, каки нам нады? А мне над ней стоять нековды…
У Михаила речь отнялась… Оно хто чево? Это што за мужик?!
- Ну, паря, ты и сказанул! Она у тебя кем работат, не забыл?
- Я чё забуду-то? Дак она вить не в больнице фершал-от, а в вилитинарке.
- Человечьему-то фершалу чё нас не лечить? Сам же ему всё обскажешь, где хто у тебя болит. Он тебе таблетку сунул – иди лечись… Вся работа! А вилитинар?! У коровы, а наипаче у жеребца, много ли наспрашивашь? Думай головой-то! Вилитинары, оне поболе наших врачей знают. Да нам вить никово шибко хитрово и не нады. Само главно, штоб от головы было, да от брюха…
- Ну всё!!! Накажу я ей, накажу! Утре приташшит.
Михаил сдвинул шапку, поцарапал затылок:
- Подумай-ка, Алексеевич, давно ли стали с тобой охотничать-то? Это сколь годов ты со мной уж ходишь? Пять-шесь? А вить никака лихоманка нас не брала…
- Не бай… Ото всево самогонка помогала…
- Вот-вот. А нонче? Моя-то ково придумала!? Положила две пачки сухой горчицы. Дескать она от простуды хорошо. В носки, говорит, насыплешь, так и ходи. И Василля заставляй. Ишшо дикалон навеливала, мол им на ночь нады растиратца. Как што не одичала!? Этим дикалоном путик опрыскать – дак года три ни сохатово ни соболей не увидим… От нево душина – не дай Бох!
- Да-а-а-а… Ишо маленькя и будем старух с собой брать. Пушай нам горчишники ставят да поясницу натирают.
- Аха. С нимя порепетировать, дак оне и ружьё за нами таскать научатца?
Шутки шутками, а ты проверь, штоб Лидка ко всем пачкам инструкции приложила, хто от чево… Не забыл, как в прошлом годе меня от простуды лечил? Чуть в землю не угнал!
Васька покатился с хохоту!
Михаилу показалось обидно:
- Тебе смешно… А я вить дня три боялся штаны застегнуть. Так пронесло, напоследе-то уж ветром качало!
Васька кулаком утёр слёзы:
- Да понимашь, у нас дома этих лекарствов – каких толькя нету! Во всех углах! Главно вить сроду нихто не хворат. А чё им валятца-то?! Ну я и насобирал, думал обоим на всю осень хватит. Ишшо и останутца… Это уж потом мне Лидка растолмачила, откуль у тебя понос взялся…
Михаил напрёгся. А Васька выставил вперёд обе руки:
- Я всё обскажу, только ты не реви сразу-то. Сперва подумай, потом на честность скажешь – до тебя доведись, ты бы сам допетрил или нет… Ну вот, слушай… как на духу говорю - я сроду не знал, што тёшша запорами маетца. Вот Лидка ей и натаскала. А тебе бы пало на ум, што пилюли, сколь дома есь – все пурген?! И порошки – пурген?! Залез на полку по охотничий билет – там настойка кака-то в капошном пузырьке. Ну, думаю, негодно лекарство на божницу не спрячут! Не поверишь – настойка, и та слабительна!.. Главно дело картинки-то с буквами на всех пачках разны! И всё не по-русски! Ну?! И ково бы я там разобрал? Я вить тебе не фершал…
- Вот едрёна вошь! А я всё думаю – счево это меня пронесло? Сроду этово не бывало! Сколь себя помню, брюхо у меня как часы работат! А тут на тебе – главно таблетки пью, а кашель не униматца! А понос и тово тошней! Я уж не знал, ково и думать… Тут ты верно смикитил, што сразу не сознался…
- А я чё говорю? Счас уж я с Лидки с живой не слезу пока аптечку не складёт…
Всю дорогу до своёй избы Михаил думал – што за мужик этот Василий? А вот привязался к нему и всё… Сам не знаю, хто чево? Без нево тоскливо… Не могу дождатца осеновки. Другово напарника никак не нады - хочь не кружай он!
СЪЕЗДИЛА В ГОСТИ
Да, паря, дефки, приташшила мне письмо почтальёнка, парень из городу отправил. Я с ума сошла - ради Христа, всё ли ладны? Он вить как всё-то хорошо, дак не шибко пишет... Читаю:
« Добрай день, мать!
Получили от тебя письмо, где ты жалуесся, што редко тебе пишу. Не сердися мать, нековды часто письмами займоватца. Пристаём без ума, день и ночь обои с Раисой на работе. Домой придёшь, а там челядь нады привести из детсково саду, да ишо домашна управа. Да за продухтами в магазин сбегать. Тут тебе не в деревне, што всё под руками. Веришь-нет, которай раз нековды вечером бутылочку пива выпить! Из мочи вышли. Счас вот ждём отпуск. Думам съездить куды-нить на море. Все ездят, а мы неуж хуже?
Стало быть летом меня не жди. С сеном и с картошками без меня исправляйся. Да не здумай сама рыть! Пензия у тебя хороша, наймёшь ково-нибудь. Тунеядцев полно, за бутылку всё сделают.
Ну вот, всё прописал тебе.
С тем остаюсь
Твой сын Роман Г.»
Ково делать? Какой лешак эти города нагородил, што весь народишко тамака бьётца без сну, без отдыху?! И хто их бедных пожалет, как не родима мамка?
Всю-ту ноченьку глаз не смежила... Расклевил меня Ромаха письмом. Всю жись за ночь передумала. Мы с ним друг дружку не приголубим, дак боле нас пожалеть некому...
Нады ехать! А как поедешь с простыми руками? Вот дак здорово живёшь, скажут, явилась... Я у них не часто бываю... По правде сказать - первай раз собралась... Дак и оне не бывали тут. Ромаха их толькя на карточке казал.
Думать нековды, стала складыватца. Сальца положила килограмчика четыре, пятилитровай туесок рыжиков солёных, в двух стеклянках сметаны да маслица, да тово-другово по-маленькю (умом-ту думаю - базарно имя надоело, пушай своёво поедят в охотку). Ково в понягу склала, а хто не вошло - пришлось мешок даставать. Дорожку нову на подарок положила – ишо свекровка ткала, царство небёсно.
Подумала-подумала - в другой куль картошек нагребла. Лишны не будут!
Да и поехала к имя... Пособлю стало быть сколь могу, докуль жива. Пушай мать добром поминают...
Два дни ехала. Всё же мне подфартило - у поезду стречали наших же деревенских на своёй машине, и меня подвезли до самово дому.
Всю себя изругала, пошто радиоргамму не отбила? Пожалела пятитку, беспута... Думала, багажу не так вного, дак сама доташшусь, почево их треложить...
Вот уж круговА дак кругова... Простояла день под дверью! Однако в семом часу Раиска с челядью домой-ту явилися.
Ну не шибко же сноха-то мне радовалася... Сходу давай трясти с меня документы, а то, мол, шляютца тутака всяки. Кажиннай листик прочитала, потом уж поздоровалася, да и то скрось зубы... Домой запустила, указала, куды манатки складывать.
А сама на месте несколь не стоит. До чево вертуча - неможно разглядеть! В колидоре-то огонь не зажигат, вижу толькя што бабёнка-то нам незаживна попалась... Не спереду, не сзаду никово нету... Уж не хворат ли чем, оборонишна мать? Ой, ради Христа, у Ромахи глаз-то наготово нету стало быть... Уж ково он на неё кинулся? Неуж ему во всём городе побашше-то бабёнки не нашлося? Видать добрых к тому времю всех подчисту расхватали, эта уж сама распоследня была...
Да вся-то расфуфырена! Дикалоном пахнет, коло неё здохнуть нельзя, какэсь рот захватыват! Это на каку-таку работу едак наряжаютца, да дикалонятца?!?!
Гляжу, пошла она в куть... хочь бы чайку горяченьково налила, у меня уж язык к нёбу присох. Да я бы и поись не отказалась – за весь день крошки в рот не брала… Самой попросить боязно... Как скажешь, што я ись отошшала? Сама бы подумала - от багажу-ту куды убежишь? Живо подберут добры люди!
Но, слава Бох, на улицу не выгнала. И чаю дала с печенюшками. Я приободрилась - счас уж повеселе заживу!
Попила я чайку. Огляделась. В куте-то всё же Раиса огонь добыла, нады успевать глядеть... А она, дефка, зад-перёд снуёт то в куть, то наизбу. У меня какэсь от мельтешення тёмно в глазах заспелось. Никак не даёт на себя поглядеть.
-Ты, родима, присяла бы на жопу-то, да обсказала, как поживаете. Меня ково боятца-то - бывать не кусаюсь. Свекровка тебя вглаза не видывала, а ты скачешь, как вошь на гребешке...
Ва-а-ай, да её хто разглядит? Вся изукрашена, живово места нету... И напудрена и нарумянена... Брови подведёны, губы красны, подглазья впрозелень…
Ну я не утерпела:
- Ты почево, родима, себя эдак уродуешь? Не по лешака ли выпатралась? Иди-ка умойся - однако на каждой шшеке по килограмму краски-то... До меня доведись, я бы спросоння-то испужалась. А челядёнку вного ли нады? Думашь ли нет ли головой-ту? Это вить своих ребят на всю жись заиками можешь сделать...
Ох она и сбрындила!!! Из-за стола выскочила и ребят уташшила с собой. Слышу, ругатца скрозь слёзы. Ково бытто я сказала?
Вот и живу я в этом городе. Неделю живу. Дак издива вышла!
Мы вить привышны рано спать ложитца ну и стаём с петухами... А тут с разговорами да с переживаннем долго уснуть не могла, вся извертелась. Не знаю уж ковды и уснула...
Бытто и ставать-то не собиралася, а в три часа как шилом в бок ткнули! Живо соскочила, завтрик направила. Ромаха-то безума любит картошки жарены, да ишо с рыжичками солёными. Куды слашше-то?! Сижу в куте. Думаю, дай-ка ишо сальца нарежу. Всё сытне, на весь день вить убегают... Час прошел... Другой доходит... Некто не стаёт.
Ладны, сижу дале...
А у самой кошки на душе скребутца, время-то уж дивно, сама ставальна пора. У нас к четырём-ту часам уж сама ленива бабёнка во дворе управитца, мягки выстряпат и на работу в колхоз убежит. А тут скоро пять...
Дак с нимя уж всё ли ладны?
Пошла я тихонькю к имя в горницу... Мамы родимы - все лоском спят! Толькя хропоток стоит. Хто чево?
Стою, не знаю ково делать. Умом-ту думаю, доспят допоследу - на работу обробеют. И будить боюся - невеска-то не шибко гладка, не дай Бох нелюбо покажетца. Хоть матушку репку пой!
Постояла ишшо да и придумала - а дай-ка я чем-нибудь в куте побрякаю! Пошла сковородки перебирать...
Но, де-е-ефки, она не до-о-олго соскакивала!!!. Толькя три слова рявкнула - я сразу спомнила, ковды им ставать нады. Но уж и сердитушша! Сколь дён прошло, а она на меня косым не глядит. Кажиннай вечер скрозь заборку слышу как она Ромаху моёво едом ест, какэсь к концу пригонят - отправляй да отправляй эту дуру деревенску обратно. Видать незлюбила меня с первово дня. А ково я ей сделала, окроме хорошево-то? Эвон сколь добра навезла!..
Уш шибко он смирнай, Ромаха-то мой... Живёт у этой кобылы на потычках.
И в самом деле, поглядела, как живут - ково ишшо нады? Не хуже людей живут.
Я и сама уж тут из мочи вышла - в людях-то спать непривышна, всё мне постеля неловка кажетца.
Ни ись ни пить не могу. За столом не знаю, куды руки девать...
Никово доброво в этом городе нету окроме тёплой уборной. У нас вить с хозяйством-ту до дому не дотыкасся. Заскочишь поись, дак докуль чай гретца успешь штаны починить или носок надвязть...Здря-то рассиживатца нековды...
А у невески-то я не хозяйка, за што ни схвачусь - всё не по её делаю!
Вот и думаю - кака из меня гостья? Сроду нигде не гостила, нечево и начинать. Оне со мной тоже пристали…
Поеду обратно... Дома работишши полным-полно.
Сена нады припасти. Нонче коров молоды-то не хочут держать, а без молосново - куды? Молочко-то нарасхват.
Картошки сама вырою. Нанимать никово не буду - всё лишна копейка задёржитца в кармане. Деньжонок подкоплю. Молоды в отпуску издёржатца, а я как раз и пошлю полторы две десятки переводом...
Пускай Роман-от увидит, кака у нево мамка - всё-то она ко времю успеват помогат… Настояшший ключ-пригодник!
Приглашення в гости-то конешно не дождуся, а вот как Ромаха деньжонки получит, можеть ишшо раз письмишко напишет...
ВЫпатрала – измазала, потратила
Где сжАбалась – где тебя угораздило…
ДОшлый – умный, сообразительный
Желта в рот – ругань-присказка
ЗабОрка – тонкая перегородка из досок
Из дива вышла – не перестаю удивляться
ИжИр вЫжил – замучил уговорами
Издёржатца – потратятся в отпуске
Как ране не трАфилась – здесь: как раньше с тобой не встретились
КосЫм не глядит – сердится, не смотрит в мою сторону
К концу пригонЯт – настаивает, заставляет
МОрда – ловушка на мелкую рыбу, плетёная из прутьев
Навалилась неоколедИма – что за напасть?
НавЕлит – всУчит, уговорит взять
НапрохОт – частенько
НарочИ – специально, нарошно
Не давнОшны – не старые
Не нарочИ морю себя – не специально голодаю
Не приставлЯтца – не прикидывается
Не одну бы выть омманУли – хватило бы несколько раз поесть
НОрки прочИшшу – Здесь: сейчас ты у меня получишь
ОболокАтца – одеваться
ОбнеслО – голова закружилась
ОбробЕть – опоздать
ОбшатУрило – покачнулась, занесло
ОтЫлая лень – высшая степень лени
ПобежАли (сапоги) – протекли
Под рёбра подпират- боль в подреберье
РазговЕться – попробовать (например огурец, редис) из свежего урожая
РаспрАсорить – раздавать налево и направо
РасклевИл – довёл до слёз
Рот захвАтыват – очень резкий запах, перехватывает дыхание
СбрЫндила – психанула, разозлилась
СолОшша