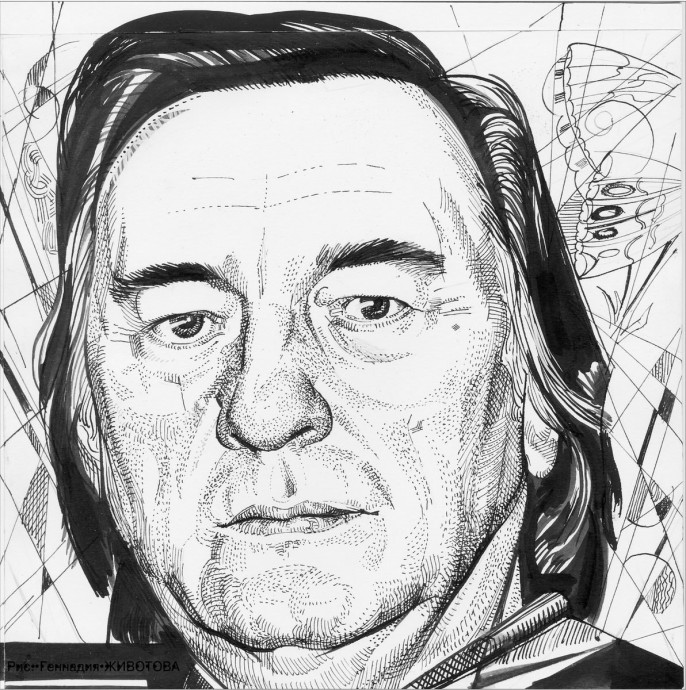Оглядываясь на прожитый век, я повторяю пушкинскую фразу: «Недаром многих лет свидетелем Господь меня поставил и книжному искусству вразумил…»
Недаром мне было даровано моё долголетие, а также развёрнутая передо мною огромная панорама явлений, событий, побед и катастроф, в которые были ввергнуты мой народ и моя Родина, и я вместе с ними. Теперь, когда главная часть жизни прожита, хотелось бы понять, чем же она была для меня и для моей страны, какие смыслы мне удалось извлечь из этих бурно прожитых десятилетий. Удалось ли мне запечатлеть век — век, доставшийся мне? Если посмотреть мои романы, мои повести, мои книги, справедливы ли слова древнего мыслителя, сказавшего: «Вещи и дела, аще не написании бывают, тмою покрываются и гробу беспамятства предаются, написании же яко одушевлении…»?
Два космоса
Я вспоминаю свое детство. Я видел Сталина, когда шел с демонстрацией, видел его далеко сквозь толпу. В отдаленной оптике, как в перевернутый бинокль, я видел на мавзолее вождя, видел мундир генералиссимуса, видел его фуражку и усы.
Я помню, как мама меня повела в Парк культуры и отдыха на трофейную выставку, где мне запомнился немецкий танк «Тигр» с немецким крестом на боку. В башне была гигантская зияющая пробоина, с оплавленными белыми краями. Я смотрел на этот «Тигр» и думал: «Может быть, это мой отец подбил этот танк под Сталинградом, а потом погиб». Я помню, как в школе мы всем классом выходили на субботники, рыли землю и сажали деревья, а под нашими лопатами вдруг заскрипели скелеты и черепа. Раньше на месте сада было огромное монастырское кладбище: в земле возникали скелеты, полуистлевшие мундиры с геральдическими пуговицами и орденами. В классе восьмом или в девятом мы расчищали футбольное поле там же, на месте бывшего кладбища. Выкапывая яму для штанги, мы вытащили из грунта череп, и, оголтелые молодые зверята, — не понимая, что делаем, — играли потом этим черепом в футбол. Спустя много лет, когда я увлёкся учением русского космиста Николая Фёдорова, узнал, что он был похоронен именно на этом кладбище, примерно в том самом месте. И, может быть, я тогда играл именно его черепом в футбол. Как писал поэт Юрий Кузнецов: «Я пил из черепа отца…» Да, это было мое первое мистическое знакомство с учением Фёдорова.
А позднее, как-то вечером за Окой, мне явился Ангел. Я до сих пор не знаю, что это было. Но я помню четко то явление, потрясшее меня на всю жизнь. Ослепительную вспышку света, какое-то божественное озарение и исходящее от него ощущение могущества. Я слышал произнесенные именно мне слова, и это чудо с годами превратилось для меня в того Ангела, который являлся Иоанну Богослову на Патмосе.
Эти ранние впечатления постепенно складывались в ощущение времени, в котором я жил. На дворе стояли шестидесятые годы, и они для меня выглядели совсем по-другому, чем для либеральных шестидесятников…
В детстве из окна своего я видел звенья потрясающих сталинских самолетов. В небе летели советские летающие крепости, окруженные эскадрильями истребителей и штурмовиков. Каждый год их племя разрасталось, менялись поколения. Появлялись всё новые и новые породы этих сотворенных человеком птиц. Это меня так увлекло, что я по окончании школы поступил в Московский авиационный институт. В дальнейшем, завершив учебу и работая в ракетном НИИ, я бросил свою любимую техносферу. Ушел в лесники, уехал в деревню, погрузился в древний и вечный крестьянский мир.
Когда я вспоминаю о том времени, о шестидесятых годах, я понимаю, что я — никакой не шестидесятник. Я не являюсь тем унылым правозащитником, которые интерпретировали наше советское время как огромную чудовищную страшную плиту коммунистического монолита, давившего культуру и народ. Тем правозащитником, который, как отважное насекомое, прогрыз купол советской цивилизации. Нет, я ощущаю это время как абсолютно иное. Обилие грандиозных явлений, начало интереснейших процессов, время удивительных глобальных начинаний, которые не противодействовали и не подавляли общество, а развивали его.
Именно тогда я подружился с русскими художниками, писателями, исповедующими нечто похожее на язычество. Я погрузился в мир древних русских песнопений, плачей, былин, обрядов, орнаментов. Это была целая московская субкультура, которая изучала космос русской деревни, погружалась в мир русской песни. Они пели, танцевали, читали наизусть былины.
Увлекались демонологией, таинственным русским подпольем, которое было накрыто православной кровлей, но продолжало жить своей особой мистической жизнью. Среди этих ярких, слегка сумасшедших, взбалмошных людей был и Юрий Мамлеев, с которым мы сдружились. Он часто бывал у меня дома, мы вместе бродили, путешествовали по старой Москве.
В ту пору я подружился с удивительным человеком, Львом Лебедевым. Он тогда еще не был священником, был только-только воцерковлен, работал научным сотрудником в Ново-Иерусалимском монастыре, стены которого подпирали угодья моего лесничества. Я никогда не забуду, как он водил меня ночью в разгромленный, еще не восстановленный храм Гроба Господня, в это никонианское разломанное, обрушившееся яйцо. Мы вместе с ним любовались звездным ночным жестоким небом, сияющим над руинами собора. Он мне рассказывал о великом никоновском проекте перенесения святых мест сюда, под Москву. И говорил, что Второе пришествие случится именно здесь. Отец Лев одарил меня духом великого бесконечного русского Православия. В ту пору отчасти и катакомбного. Именно он окрестил меня в ту пору.
В ту эпоху я сдружился с еще одним потрясающим человеком, Константином Павловичем Пчельниковым. То был певец русского, советского глобализма, идеолог русской техносферы, философ русских пространств, апологет русской государственной идеи в её планетарном, космическом измерении. Он меня приобщил к красоте, тайне и могуществу цивилизации, к имперской машинерии, которая выражается во вращении пространств вокруг центра, в захватывании в великий проект разноликих народов и этносов под эгидой просвещенной власти, стремящейся централистски управлять огромными пространствами.
Я тогда познакомился и долгое время дружил с изумительными псковскими реставраторами Борисом Скобельциным, Севой Смирновым. Они возрождали псковскую старину, псковские храмы. В так называемой богоборческой советской России, в этом якобы исчадье ада, где сжигалось и уничтожалось всё святое, они, по повелению Сталина, получая на реализацию своих проектов огромные государственные средства, из руин восстанавливали псковские крепости и монастыри. Это они научили меня обожать русскую историю, вокруг них сплотился псковский центр любителей русской старины, куда приезжал Лев Гумилев. Псков в те годы был Меккой русского православия. Там я познакомился с Семеном Гейченко и другими хранителями пушкинского наследия, с архитектором Львом Катаевым, с питерским прозаиком Радием Погодиным… Это были поразительные, ренессансные люди.
Потом я поступил работать в «Литературную газету», и эта газета стала для меня настоящим открытием. Я увидел людей, которые, работая в самой крупной газете для интеллигенции, легально и абсолютно свободно размышляли о путях усовершенствования общества. Они занимались проблемами экономической реформы, проблемами советской науки. Это была целая плеяда, которая готова была реформировать советский строй — не взрывать его изнутри, не называть его преступным, но вносить свою лепту в его модернизацию. Когда я обращаюсь к этому времени, я вижу период, когда в недрах Советского Союза обозначились две интенсивные — можно сказать, космические — тенденции. И я был причастен к обеим. Тогда был запущен великий технический советский проект, к которому были подверстаны ресурсы страны: наука, экономика, энергетика, образование, космос, оборонка. И был запущен проект духовного космоса, проект развития культуры и литературы, театра и кино. Через обращение к русской классике, к русским ценностям и философии.
Я купался в этих двух потоках. Вот-вот эти потоки должны были слиться в единое большое русло. На пересечении этих двух потоков должна была возникнуть великая русская цивилизация будущего. Именно её закололи зверски в1991 году.
Так закалывают младенца во чреве матери. Его разрезали на куски, чтобы не дать нашей стране превратиться в сияющего гиганта, наполненного светом и откровением.
Но тогда я ощущал период космического взлета. Мои первые рассказы и повести были наполнены ощущением этого света. Тогда же я понял, что коммунистическое само по себе не является абсолютом. Что над ним есть и другие истины, другие откровения.
Это я понял на острове Даманский. Тогда молодым, еще неопытным корреспондентом «Литературной газеты» я наблюдал бои на китайской границе. Я видел красную звезду на мохнатой шапке убитого китайца. Эту звезду я, внутренне ужасаясь, отвинтил себе на память. То была пора, когда красная звезда стреляла в красную звезду. Коммунисты стреляли в коммунистов. Я видел, как рыдали матери убитых русских пограничников. Так, захлебываясь слезами, оплакивали погибших на поле Куликовом. Я тогда понял, что государство — понятие более важное, чем та или иная социальная идея. Идеология может меняться, а государство остаётся, или гибнет окончательно со страной. Я помню, как мы вместе с нашим особистом ползли под пулями по берегу Уссури. Я хотел добраться до места боя, увидеть окровавленные кусты, лежбища наших пулеметчиков, наших солдат, которых потом уже мертвыми при помощи телефонных проводов выволакивали с поля боя. И когда мы ползли по замерзшей реке, под нами был слышен гул великой реки. Рядом со мной был кагебешник, к которому многие мои тогдашние литературные друзья отнеслись бы враждебно, который для них был символом зла и насилия. Но я в тот момент испытывал к нему родственные, почти братские чувства. В минуты опасности я почувствовал, что мы принадлежим к одной стране, к одному государству.
Дух и машина
Второй период моей жизни я бы назвал периодом острейшего интереса к машине. Интереса к супермеханизмам. Я, как безумный, оседлав самолеты, носился по всей стране, посещал великие стройки, строительства плотин, только что открытые сургутские месторождения нефти. Я видел, как бьются первые фонтаны из скважин, как создаются в хаосе стройки будущие нефтяные города. Сургут, Нефтеюганск, Нижневартовск. Я видел, как запускают Ермаковскую ГРЭС в северном Казахстане. Когда включали рубильник — и вся степь озарялась огнями.
Незабываемое чудо сотен новых промышленных советских городов, рождавшихся в пустыне и в тайге, в тундре и в степях, высоко в горах и на болотах.
Я видел атомные города на Мангышлаке, где была построена первая атомная электростанция на быстрых нейтронах. Там, в пустыне, возводился город. Туда приходили саперы, закладывали взрывчатку в камень, в образовавшиеся ямы насыпали привезенную с континента землю, сажали яблони, и эти рукотворные сады цветут до сих пор.
Помню Усть-Юрт, серое пыльное плато, по которому когда-то шли батальоны генерала Скобелева завоевывать Бухару и Хиву. Тогда под палящими лучами солдаты падали, и Скобелев дал приказ барабанщикам выйти вперед, и под бой барабанов войска двинулись дальше с развевающимися знаменами: потрясающий поход русских войск, равный высадке контингента на Марс. Там сегодня располагается огромное газовое месторождение Тенгиз, открытое и освоенное русскими первопроходцами, геологами, строителями и газовиками. Видел там первую русскую буровую. Никогда не забуду, как вращались эти трубы, опускающиеся в преисподнюю. А под горою был белый сверкающий солончак, похожий на снежное поле. Я пошел туда, и там было так красиво, так одиноко, так чудесно. Я был весь с ног до головы белый от этой соли, и я стал там танцевать свой одинокий танец покорителя новых земель. Сейчас это месторождение питает мощь Казахстана, там работают американцы из «Бритиш Петролеум». По существу, открытое мною месторождение приносит доходы иной цивилизации, нашим заокеанским конкурентам.
Я увлекался технической цивилизацией. При этом машиной русская литература никогда не занималась. Она занималась душой, природой, народными истоками, мистической энергией или, напротив, занималась переделкой общества, социальными проблемами человека. Во-первых, и машин было мало как таковых, во-вторых, считалось, что машина — это носитель зла, нечто бесовское, чуждое человеку. Но машина — это не только супертурбина, или атомная станция, машина — это и государство, общество, любая организованная, организационная структура.
Мне хотелось эту машину одухотворить, внести в неё нечто человеческое, сделать частью человека. Всё от Бога — рассуждал я — значит, и машина несет в себе Божественное начало. Соединить машину и природу, машину и человека, машину и Бога — вот задача для мыслителя, для художника, для политика. Когда я говорил об одухотворении государства, нашего советского государства, в истории которого было столько крови, столько перемолотых костей, — я понимал, что без чуда одухотворения государственная машина начнет рушиться, самоистребляться, что в конце концов и произошло.
Мы все сообща не успели одухотворить наше великое государство, напитать его великой культурой, смазать его шестеренки и колеса нашими смыслами. И машина захлебнулась перемолотыми костями. Два потока — космической духовности и космической технокультуры — не соединились. А ведь наша духовность должна была искупить страшный грех своего кровавого рождения. И я этим был занят. Это была моя сверхзадача, что делало меня чужим и для «деревенщиков», которые оплакивали ушедшее прошлое, и для трифоновцев, нарождающихся либералов, отчужденных от государства. Я был очень одинок, и все мои книги той поры, независимо от их исполнения, принимались с кислой улыбкой. Меня называли технократом, урбанистом и так далее.
Затем от мирной машины я стал переходить к нашим военным операциям. Советская военная машина достигла тогда блестящих результатов — впрочем, тайных, скрытых для общих глаз.
Так сложилась моя судьба, что я многое успел повидать.
Я уходил из Гремихи на атомной лодке в поход. Я знаю, что такое вырубленные в скалах штольни, где гнездились атомные подводные многоцелевые лодки. Кстати, та лодка, на которой я уходил в поход, недавно затонула, когда её транспортировали из Гремихи в Северодвинск на слом.
Вспоминаю, как на мобильной ракетной установке я мчался по треугольнику периметром в 300 километров. Подвижная туша ракеты, готовой устремиться вверх, в сопровождении «бэтээров» мчалась по своему маршруту, и никто не знал, когда будет команда «пуск».
Я бывал на северном ракетодроме в Плесецке, ночью загорались огни, ракета уходила в небеса и падала где-то в Тихом океане. Облака покрывались во время запуска какой-то перламутровой пленкой, а в мегафонах говорили о рубежах, когда отделялись очередные её ступени. В Семипалатинске я видел испытание ядерной бомбы. Ядерный заряд был заложен в центр горы, в штольню. Он взрывался — и гора взлетала вверх, а потом оседала, становясь на треть ниже. У горы были переломаны все кости, а сверху клубился жуткий желтый дымок. Ученые за эти микросекунды считывали всю информацию о взрыве. Снимали его «портрет». Потом мой знакомый на этом полигоне водил меня по черным горам и показывал использованные штольни, которые не успели обвалиться. Мы пролезли в такую гору, и я вспоминаю её чрево, какие-то расплавленные слюни по стенкам. Стеклянные волосы ведьмы: зеленые, золотые, перламутровые…
Когда я описывал все эти взрывы и взлеты, всю нарождающуюся военную мощь государства, я писал свои романы «600 лет после битвы» и «Ангел пролетел». Я ездил на строительство новой атомной станции, и во время написания, по ходу создания сюжета, я задумал аварию на этой станции. Мне по сюжету требовалось создать напряжение внутри романа. Должен бы возникнуть кризис, я задумал аварию. Но уже через неделю случился Чернобыль. Я сразу полетел туда. Я был под взорванным Четвертым блоком. Донецкие шахтеры пробивали туда штольню, чтобы создать морозильную установку, потому что ядовитый уголь медленно погружался вниз, и если бы он достиг водоносных слоев, произошел бы гигантский гидравлический взрыв, который бы оказался страшнее самой чернобыльской катастрофы. Я стоял там внизу, в штольне и касался руками бетонного днища реактора. Как кариатида, я держал на своих руках взорванный Четвертый блок. Потом я летел над ним на вертолете: мы хотели установить розу ветров и в реактор должны были бросить дымовую шашку, она бы указывала направление уходящих ядовитых испарений. Мне сказали, что вертолет будет висеть в воздухе не больше трех минут. Кабина летчика была покрыта свинцовой оплеткой, а фюзеляж, где я находился, был голый, и мы провисели там не три, а двадцать минут, розу ветров так и не определили, но мой дозиметр показал полную боевую дозу. Потом вместе с солдатами химзащиты я кидался на очистку Третьего блока, на который упали во время взрыва куски графита и урана с Четвертого блока. Солдат выстраивали в цепочку, они были в бахилах, респираторах, резиновых рукавицах. Их пускали на тридцать секунд, чтобы они с веником и совком добежали до места, где лежал обломок. Их задача была такой: совком смести обломок, получить свою боевую дозу, кинуть обломок в контейнер и броситься обратно, уступая дорогу другому солдату для следующего броска. После этого их отправляли обратно на место службы. Я тоже проделал этот путь. Когда я вернулся обратно, мои бахилы были полны ледяного пота, такое было нервное напряжение. После я думал, что виновником Чернобыля был я, задумавший аварию для своего романа. А поскольку Чернобыль знаменует собой начало развала Советского Союза, может быть, я повинен своей прозой в развале моей державы. Такие мысли приходили мне в голову.
Враг
Третий период моей жизни был связан с войнами. Я побывал на всех локальных войнах, которые шли в этот период с участием Советского Союза. Я сполна поездил по заграницам — только не по Парижам и Лондонам, не по Нью-Йоркам и Ниццам, куда любили ездить наши либералы, — а ездил я в джунгли, в сельвы, в пустыни, в афганские горы. По существу, везде воевали между собой Советский Союз и Америка, автомат Калашникова и винтовка М-16. Тогда я очень остро прочувствовал присутствие врага. Мне даровано судьбой это ощущение врага. Я понял, что у моей страны есть враг. Он был представлен на локальных войнах американцами, а четыреста лет назад он был представлен тевтонами, завтра он может быть представлен иначе, но это один и тот же извечный враг России. Я ощутил его, исконного, древнего, никуда не девшегося за тысячу лет, врага России. И потому те из русских, кто воевал на стороне врага — якобы ради неких высоких целей, из убеждений — были для меня такие же древние, исконные враги-предатели. Помню мои бесконечные поездки в Афганистан. Я прошел с нашей армией весь боевой путь, от начала до конца. Участвовал во всех главных военных операциях. Был на перевале Саланг, через который проходили советские войска, где горели наливники, рвались танки. Я был на Панджшере, где шли ожесточенные бои и где, я видел, обкатывался в боях командующий армией, который еще ни разу не нюхал пороха. Командующий ехал на передовую, чтобы понять, что такое реальная война. Он ходил на бронетранспортере под прямую наводку крупнокалиберных пулеметов и готов был погибнуть ради того, чтобы испытать всё, что испытывает обычный солдат. Он видел, как умирают от ран наши солдаты в полевом лазарете, лежа на полу с пулями в животе, дожидаясь, пока их вывезут в госпиталь. Он хотел почувствовать психологию рядовых солдат и генералов, разведчиков и вертолетчиков.
Помню красную марсианскую пустыню на границе с Пакистаном. Она была наполнена красными малиновыми волдырями. Вместе с группой спецназа мы высаживались в пустыне, охотясь за караванами, гружеными оружием для душманов. Не забуду ту картину. Один вертолет барражирует в воздухе, прикрывая другой, который садится недалеко от каравана. Спецназ выскакивает, и я с фотоаппаратом в руке стараюсь обогнать этих длинноногих военных, скачущих с автоматами в руках. Я снимал этот досмотр каравана, уничтожение груза боеприпасов, расстрел верблюдов…
Не забуду свой ночной перелет на «Черном тюльпане». Огромный транспортный самолет раз в день облетал все наши афганские гарнизоны: Джелалабад, Кандагар, Шиндант, Кабул, собирая скорбную жатву, цинковые гробы. Я летел на этом скорбном стальном тюльпане. За стеклом иллюминатора плыла огромная мертвенная сине-голубая луна. В отсеке стояло гробов двадцать, в них лежали молодые безвестные герои. Летчики пригласили меня к себе, и мы пили водку, проплывая над синей луной…
После этого была Африка, и я плыл по желтой Лимпопо в том месте, где река впадает в океан. Нас с берега обстреляли, на катере был пулемет, мы ответили короткой очередью по берегу. Шла охота на диверсантов из ЮАР, уничтожались аэродромы подскока. Их самолеты из Южной Африки летели в Мозамбик, подсаживались у Лимпопо, заправлялись и летели дальше. Диверсанты взрывали нефтепроводы, мосты, жгли всё, что горело. На юге Анголы я был вместе с Сэмом Нуйомой, лидером намибийских партизан. Я видел их подземные штабы, где они укрывались от авиации. Там же, под землей, были госпитали, военные школы, где советские спецы учили партизан минировать, взрывать, обезвреживать мины, стрелять и метать ножи. Я пережил налёт на этот лагерь.
Не забуду поездку в Эфиопию, там в это время шла война. Шла эвакуация людей из районов, близких к Эритрее. Под видом того, что прошла засуха, и необходимо было спасать умирающих от голода, забирали людей, чтобы эритрейцы не могли их мобилизовывать в свои части. Их самолетами перегоняли на юг Эфиопии. Я пришел в лагерь этих беженцев. Это были сонмища каких-то древних библейских племен. Изможденных, с торчащими ребрами, изнывающих от жары людей. Стенали младенцы, которые сосали пустые, как чулок, груди истощенных матерей. Когда я сошел с вертолета и вошел в лагерь, на меня, сытого, свежего, накинулись полчища каких-то насекомых. Я весь покрылся этими тварями, которые почувствовали во мне свежее мясо. Но меня мучили не столько они, сколько чувство вины: вот я — крепкий, сытый — ничем не могу помочь этим изможденным людям.
Не забуду мои походы на пятой средиземноморской эскадре. Наши корабли из Северного и Балтийского флота соединялись в эскадру и противодействовали Шестому флоту США. На случай, если с него начнется массовый взлёт самолетов, и они начнут бомбить Севастополь и Донбасс, наши корабли должны были вступить с ними в сражение, и снизить интенсивность американского удара на 20 процентов ценою собственной гибели. Я плыл на маленьком корабле радиационного дозора, который подплывал к берегам Израиля, и отслеживал взлеты израильской авиации. Самолеты летели в Ливан, в долину Бекаа, чтобы бомбить там наши зенитно-ракетные установки, которые мы поставляли арабам. Когда взлетали израильские самолеты, они сразу уходили к морю, стелились вдоль морской глади, невидимые для наземных радаров, но наши кораблики их фиксировали и передавали данные зенитчикам. Никогда не забуду, как я с нашими разведчиками на небольшом скоростном катере шли вслед за американским авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр», который высился в тумане, как серая громадная махина. А мы плыли за ними и выуживали сачком весь мусор и хлам, который тянулся за авианосцем. Все бумажки, письма, счета. Это был драгоценный улов для разведки. Таким образом узнавались имена командиров, состав экипажей, кто откуда, у кого какие родственники в Огайо или в Аризоне. Не забуду и охоту за американской подводной лодкой в Тирренском море, откуда они готовились наносить удары по Советскому Союзу. Наши противолодочные корабли разбрасывали буи, и вдруг с югославской базы к нам прилетели гигантские противолодочные самолеты с красными звёздами. Помню мощный рёв. И большие красные звезды над палубой, над Средиземным морем — восхитительное зрелище!
То была война с врагом, который потом победил нас, и локальные конфликты были перенесены на территорию моей былой страны — Советского Союза. На этих уже внутренних войнах мне удалось тоже побывать. В Чечне, в Карабахе, в Приднестровье, куда я привез академика Игоря Шафаревича и писателя Дмитрия Балашова. Помню, Шафаревича по дури своей тогдашней я вывел на Дубоссарскую плотину, и мы вместе шли через Днестр. А на той стороне сидели румынские снайперы, и они прекрасно нас видели. Видели, как два каких-то безоружных чудака идут в их прицелах, им ничего не стоило нас пристрелить. Мы дошли до середины и вернулись обратно. Спрашивается, зачем я повел под обстрел знаменитого академика? А писатель Балашов, человек абсолютно фольклорный, знающий, как стрелять из лука и рубиться обоюдоострым мечом на Ледовом побоище, он взял в руки винтовку и стал грозно целиться за Днестр. В своей косоворотке он выглядел оригинально в окопах Приднестровья. Но он целил всё в того же вечного русского врага.
Именно в этот период друзья прозвали меня «советским Киплингом», а враги — «соловьем Генерального штаба» за мою апологетику армии. Я дорожу этими прозвищами. Я их заслужил.
Не сдаёмся!
Следующий период был связан с тем, что эти войны переместились на мою территорию, на территорию моей страны. Я вдруг резко ощутил, что пришедший к власти Горбачёв страшнее Шестого американского флота, натовских военных дивизий. Это, по существу, концентрация зла, сундук, в который спрятана смерть моей страны. И тогда, уже в 1987 году, я стал оппозиционером. Написал антигорбачевскую статью, и таким образом из одинокого романиста опять превратился в публициста, журналиста. Это была поразительная пора, которая всё перевернула. Начались тотальные предательства, особенно остро это ощущалось в писательском кругу.
Вчерашние друзья обнаруживали свою вражду, стали исповедовать разный символ веры. Я никогда не забуду, как меня пригласил в здание ЦК КПССС Александр Яковлев, пытаясь меня завербовать. Не забуду его жилетку, наш разговор. Он меня выспрашивал о моих взглядах, интересах. Он тогда работал штучно — создавал армию либеральных редакторов, журналистов, которая потом перемолотила все красные ценности, всех неуклюжих советских динозавров. Одна передача «Взгляд» уничтожила и переварила всю идеологическую массу, растворила в кислоте целый строй.
Яковлев, наверное, хотел, чтобы я был в числе его свиты. Никогда не забуду, как он провожал меня из кабинета, приобняв за плечо до двери, желая дальнейших встреч и контактов. И очень скоро появилась моя работа «Трагедия централизма», которая была опубликована в «Литературной России», где как бы не от себя, а повинуясь пророческим страшным откровениям, я рисовал картину распада СССР, падение экономики и войны по всему периметру Советского Союза; разрушение общества, закабаление армии, превращение России в колонию, крах тысячелетней русской цивилизации. Статья была воспринята обществом. Я думаю, и сейчас она была бы прочитана как вполне актуальное политологическое исследование. Чуть позже, по наущению Зюганова, я написал «Слово к народу», которое стало манифестом не поддавшейся на искушения партии, армии, советской культуры. Народ должен был сопротивляться тотальному горбачевскому предательству. Это был документ, который Яковлев назвал манифестом путча.
Я был включен во все политические процедуры, мы создавали газету «День», и эта газета, основанная в самом начале 1991 года, успела на своих страницах отобразить весь ансамбль ГКЧП. Почти все будущие гэкачеписты отметились у нас. Ведь действительно, если говорить откровенно, мы были газетой заговора, антигорбачевской оппозиции в самых разнообразных формах. В неё входили и армия, и партия, и культура, и церковь. Мы собирали все национальные контрлиберальные силы.
Когда грянул путч, нашу газету на месяц закрыли, и либералы торжествовали. Когда качался в стальной петле Дзержинский, ни один чекист не отстрелялся по бесчинствующей толпе из табельного оружия. Когда в один миг разбежались все партийцы из этого большого дома, бородатенькие ребята приставили стремянки, и молотками сбивали надпись «ЦК КПСС». Когда танки, прячась от московских блядей, сутенеров, педерастов, трусливо ушли из Москвы, оставив на растерзание Кремль, царские покои, Генштаб, тогда выступили мы, русские писатели. Мы были единственные, кто сопротивлялся, кто вышел на защиту своих ценностей.
Незабываемые были дни и ночи, когда писатели забаррикадировались в доме на Комсомольском проспекте. Мы заставили двери мебелью, окна завалили шкафами и стульями и ожидали штурма, ожидали прихода разъяренных либералов, которые кричали: «Проханова повесить на телеграфном столбе! » Мы сидели там, пили водку, молились, пели песни, спали кто на столах, кто на полу, лобызались, читали стихи — это было великое старообрядческое сидение, когда мы были готовы в любой момент запалить наш сруб, чтобы через этот пал уйти в небеса. Такая потрясающая была энергетика там! Префект Музыкантский приходил к нашим воротам, Евтушенко являлся, но мы никого не пустили на порог бастиона, нашего писательского храма. По существу, мы отбили эту атаку. Мы, повторяю, были единственные. Мы, «Славянский собор» и разрозненные группки Анпилова, который сражался в ту пору за страну, за честь и совесть народа. Это притом, что миллионы коммунистов сидели под кроватью, и у них, как у кроликов, дрожали хвостики.
После ГКЧП мы стали действительно газетой оппозиции. К нам стекались все разрозненные, разбитые отряды сопротивления. Так бывало во время войны, когда советские войска попадали в котел. Немецкие части утюжили армии и шли дальше, а разрозненные группки бежали в леса и искали центр притяжения, куда стекались командиры, обозы, летчики сбитых самолетов, обгорелые танкисты. И вот такой была газета «День». К нам приходили все: радикальные коммунисты и коммунисты умеренные, националисты радикального толка и священники, к нам приходили люди культуры — начиная от язычников, которые исповедовали веру в Перуна, заканчивая катакомбными христианами. Мы всех соединяли. То была огромная работа, которую вела газета «День» по созданию красно-белой оппозиции. Той самой оппозиции, которую наши враги стали называть красно-коричневой. Когда в 1993 году грохнул ельцинский указ, наша газета вышла на баррикады, участвовала в восстании. Наша газета, во многом, установила информационный контроль над Верховным Советом, мы участвовали в создании сопротивления в осажденном дворце. Это нашу газету расстреливали в Останкино в тот миг, когда гвоздили пулеметами по толпе, когда демонстрантам сносило головы, отрывало конечности. Помню, как какой-то сумасшедший БТР носился у края толпы, заламывал такие виражи, что казалось, он вот-вот перевернется на бок, а в люке видно было сумасшедшее, обезумевшее лицо командира. Я с каким-то парнем пытались сжечь этот БТР, кидая в него бутылки с зажигательной смесью, промахивались. Я понимал, что нахожусь в центре огромной кровавой драмы русской истории. И в этой истории участвовала наша газета, которую тогда мы защитили. Потом было мое бегство в леса, погружение в холодные, пустынные русские пространства с их осенним покоем. Это был уход на время из этой страшной катастрофы — той катастрофы, в которую мы опять вернулись через несколько дней, внутри которой мы затеяли новую газету, газету «Завтра».
Мы в это время, если не были очевидными лидерами, то были абсолютным авангардом антиельцинизма. Идея сопротивления оккупантам, которую мы сейчас отстаиваем, способствовала скромной и далеко не достаточной победе, которую одержало русское национальное движение и русское государство сегодня. В этом положительном сдвиге мы чувствуем и свою заслугу. Десять миллионов русских душ, что погибли в эти страшные годы, которых недосчиталась Россия за ушедшее двадцатилетие, — они не были жертвенными баранами, которых забивают на алтарях и капищах. Русские мученики, которые умирали: кто от голода, кто от тоски, кто в петле, кто от пули в висок, — всеми своими смертями показывали, что не хотят жить в этом оккупированном государстве, среди убиваемого народа. Бесконечные, безвестные люди — герои той войны, которую мы вели тогда, которую продолжаем вести и ныне.
Именно в это время, в эти годы за мной закрепились ярлыки — такие, как «путчист» и «красно-коричневый». Я не стыжусь этих званий, которые присвоил мне мой лютый враг, враг моей Родины.
Русское чудо
Книги, написанные мной, — такие, как «Красно-коричневый», или «Последний солдат Империи», — это книги, в которых я описывал русский ад 90-х годов. То было время, когда на свет Божий вылезли страшные монстры, нетопыри, чудовищные рыла, которые всегда, наверное, присутствовали в русской жизни, но были заморожены, загнаны в глубокое подполье жизни. И вот они вырвались на свободу, стали явью, реальностью. Такие книги, как «Политолог», «Теплоход »Иосиф Бродский«, »Крейсерова соната«, — моя форма борьбы с этим адом. У меня не было ни автоматов, ни воздушных армий, ни разведки — я сражался с ними своим искусством, магией своей романистики. Конечно, враг нам не скупился на благодарности — нашу газету сжигали, последовательно запрещали, нас ждали у подъездов, нас били кастетами по голове, бросали к порогам мешки с гнилыми тухлыми костями, объявляя, что мы приговорены. Но мы продолжали сражаться, и я думаю, что, к большей чести всей русской интеллигенции — не той либеральной кучки, а всей русской патриотической интеллигенции, — мы прошли сквозь этот ад, пронесли через этот чад наше слово.
Наступили другие, новые времена. Наступила эра Путина. Мы заметили первые признаки перемен. Я вдруг почувствовал среди этого кромешного ада, кипящего вара, что появилась какая-то твердость, возникла некая новая субстанция, новая плоть. То было новое рождение русского государства. Государства в 90-е годы не существовало и не предвиделось. Мы, как народ, были обречены на истребление. И наше сражение было сражением людей уже после конца, после капитуляции. Мы бились по ту сторону жизни, по ту сторону истории. И вдруг в ходе сражения что-то изменилось. Появилось нечто. Это было государство Пятой империи русских, которая сменила Четвертую, разгромленную сталинскую, — ту, что сама сменила Третью, императорскую, которая, в свою очередь, сменила империю Рюриковичей, Московское царство, возникшее на руинах Киевской и Новгородской Руси. Размышляя над этим, я обнаружил в русской истории действующую таинственную синусоиду, мистическую функцию, которая, как странное существо, таинственная энергия, — плещет в русском времени, среди русских пространств. То возносит нас к вершинам величайшей славы, красоты, могущества, соединяет нас в великое государство, рождает среди нас художников, поэтов, героев, духовидцев и святых; то опрокидывает в черную лохань, в черную бездну, в какую-то жуткую яму, галактическую дыру — и мы исчезаем. Мы пропадаем бесследно, и нам не суждено больше появиться на свет. Мы не существуем иногда несколько столетий, иногда век, иногда десятилетие, но потом опять возникает Россия: в новом обличье, с новыми контурами, с новыми крыльями, с новым языком и говором. И опять нас возносит на вершину. Опять у нас появляется Преподобный Сергий, Андрей Рублёв. А потом снова ввергаемся в Смутное время, опять оказываемся в кромешных временах. Периодов этих я насчитал пять. Пятый — сегодняшний. Пятый раз Империя воссоздается. Это новое рождение я отчетливо зафиксировал в своем сознании. Я зафиксировал его сразу после расстрела баррикадников в 1993 году. Эти баррикадники, с одной стороны, были защитниками Четвертой красной империи, с другой стороны, они были первыми солдатами новой, народившейся Пятой. Я это ощутил во время катастрофы »Курска«, которая, казалось бы, была для России такой бедой, таким горем, но она сплотила русскую нацию. Около этого огромного стального гроба столпился русский народ. Мы проиграли ужасную Первую чеченскую войну, она поставила крест на русской государственности. Но тогда появился первый святой новой России — воин Евгений Родионов. Россия выиграла Вторую чеченскую, где явили себя новые полководцы, генералы Трошев и Шаманов, А когда и где есть святые и полководцы — возникает она, Империя.
Эти симптомы, эти предчувствия постоянно усиливались во мне. Я создал свою теорию — теорию Пятой Империи и написал роман »Пятая Империя«, где открыл феноменологию своей имперской идеи. Имперская идея вступила в контакт, вступила в страшное противодействие с контр-имперской реальностью. И весь роман говорит об этой войне, об этой драме, внутри которой можно узнать и Квачкова, и Рохлина, и лидеров сегодняшней оппозиции. И весь демонизм сегодняшнего либерального мира присутствует в этом романе. Но это мой первый роман, который связан с неизбежной Победой.
Я стал исповедником этой моей религии, религии русской Победы, русской Пасхи, которая, несомненно, необоримо будет торжествовать в нашей истории.
Ведь нас каждый раз сбрасывают в бездну, и каждый раз мы восстаем из этой бездны. И мистическая Победа 1945-го года была одержана гораздо раньше. Она формировала весь сталинский период, она объясняла и великие жертвы, и чистки, и ГУЛАГ, полет наших истребителей, создание шедевров советской поэзии. Мистическая победа XXI века — она тоже одержана, хотя еще и не видна. Нас еще сбрасывают в кошмар, в катастрофы, нас мучают, мы находимся в состоянии уныния, но я знаю, что звезда Победы уже сияет над нашими головами. Вифлеемская звезда русской судьбы уже где-то мерцает и священно светит, и мы все находимся под божественным влиянием этих лучей. Не мы формируем будущее, но будущее формирует нас. Формирует наше настоящее, делает из нас тружеников, стоиков, мыслителей, победителей по натуре и по существу. Ощущая это, зная, что это так, я нынешний тяжелый, очень драматичный для меня год, посвятил созданию на Псковщине Священного Холма. Я попытался создать каменную насыпную книгу русской истории, в которой хотел соединить все разорванные русские периоды — периоды всех русских Империй — в одно целое. Я хотел собрать историческую энергию — развеянную, во многом уже утихшую и потухшую, — и запустить в этот Холм, в этот духовный реактор, в его мистическую чашу.
Я ездил по всей Псковщине и собирал священные горстки земли. Был там, где родился князь Владимир — Креститель Руси. Там, где родилась княгиня Ольга — первая православная наша княгиня. Был там, где Трувор причалил свой челн к городищу. Там, где Александр Невский рубился с рыцарями-тевтонами, на берегу Чудского озера. Там, где провозгласил свою формулу »Москва—Третий Рим« старец Филофей. Там, где псковичи отражали натиск войск Стефана Батория, и где явилась им Богородица. Там, где Петр устанавливал свои бастионы и орудия против шведов на берегу реки Великой. Там, где жил Пушкин, в селе Михайловском. На станции Дно, где закатилась звезда романовского периода. Там, где первый красный отряд выпустил снаряд по броненосцу кайзера, пытавшегося захватить Псков, и отбил натиск. Там, где Матросов закрыл амбразуру своим телом, и там, откуда уходила на свой священный подвиг 6-я рота Псковской воздушно-десантной дивизии, полегшая костьми в Аргунском ущелье. Я был там, где проповедовал и исполнял свою мессианскую службу старец Николай Гурьянов с острова Залита. И там, где был погребен в Печерских пещерах старец Иоанн Крестьянкин. Эти все земли взяты были из пяти эпох русской истории и всыпаны в этот Холм, увенчанный величественным крестом. Сегодня этот Холм с распятием сияет и дышит этими энергиями, и тысячи людей сходятся к нему. На этот Холм насыпают землю с могил своих родных, друзей, везут ее из своих родных мест. Там есть земля с Иордана, где крестился Христос, земли с русских священных кладбищ, рассеянных по всему миру. Я только что закончил роман, который так и называется »Холм«. Там я описал сотворение этого мистического Холма, созидание этого чуда. Ведь мы сотворили чудо, насыпав этот материальный холм вместе с моими друзьями, вместе с моими сподвижниками, соратниками, — чудо, которое получило признание всех псковичей, благословение церкви, одобрение администрации и армии… Случилось удивительное холмотворение, землеприношение. Этим романом, пока еще не изданным, я написал акафист Святому Холму, и внутренне испытываю душевное удовлетворение. Теперь некоторые из моих друзей стали называть меня — »старец Филофей«, возвестивший если не Третий Рим, то Пятую Империю русских.
Я испытываю огромное удовлетворение от прожитой жизни и благодарность за то, что Господь дал мне увидеть такое зрелище, дал мне стать участником великих и страшных событий. Я всю жизнь сражался за Родину. И религия, которую исповедую, есть религия моего Отечества, моей России. Вера в её священный, уникальный Божественный путь. Вера в её неизбежную Победу!