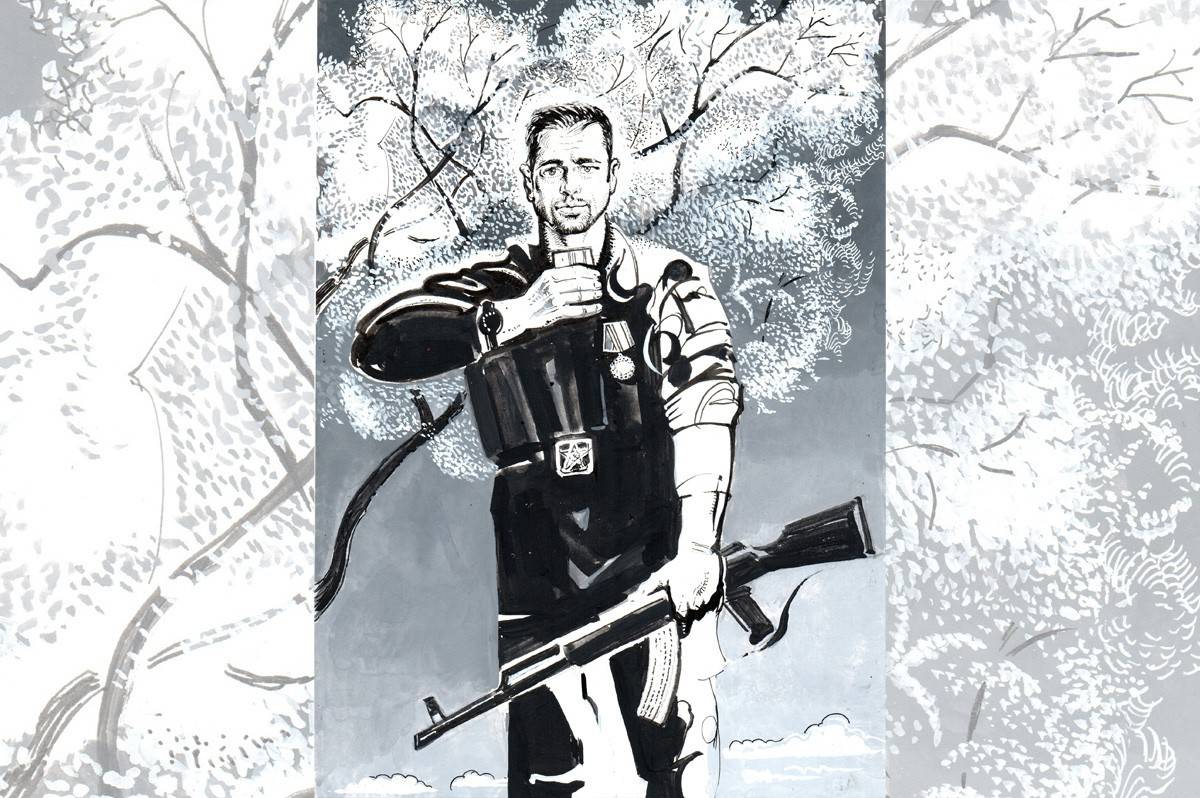Короткий роман «Счастливая Москва» опубликованный шестьдесят лет спустя после написания и до сих пор мало кем прочитанный – единственное большое произведение Андрея Платонова, действие которого целиком происходит в столице СССР. Однако Москва, которая фигурирует в названии - это не город, а имя главной героини – молодой женщины Москвы Ивановны Честновой, предмета вожделения всех мужских персонажей, и этому влечению не препятствует даже деревянная нога, приобретенная Москвою взамен отрезанной живой. Притягательностью не исчерпываются все ее функции, так что в начале стоит поразмышлять о том, какова природа героини. Стоит, в частности, обратить внимание на несколько обстоятельств, и в первую очередь на то, что Москва Честнова выражает собою абсолютную оторванность от прошлого, ее появление в мир вообще и в мир строящегося социализма в частности происходит буквально из ниоткуда: отсутствуют корни, линия рода, родители, имя, фамилия, отчество - их она получает в детдоме. В результате и корнями, и родом, и семьей ее становится именно Страна Советов. Но не надолго.
В «Счастливой Москве» читатель имеет уникальнейшую возможность вместе с автором в лице персонажей наблюдать внутренние противоречия рождающегося нового мира, который, едва успев утвердится в своем существовании, стремительно обрастает неведомым ему и казалось бы давно исчезнувшим до этого рождения прошлым – и героям по мере развития сюжета приходится смириться с тем очевиднейшим фактом, что дальнейшее их существование будет определяться обстоятельствами этого самого отвергаемого ими прошлого, а не вымечтанным будущим, которое, скорее всего, никогда не наступит и тем более не сможет дать всеобщее счастье всем, кто будет в нем жить – а ведь именно так заявлено в программе социализма.
Здесь, кажется, ответ на вопрос, почему вопреки прилагательному, присовокупленному Платоновым к имени Москвы, ее преследует нескончаемая череда жизненных неудач: это тот довольно редкий случай, когда свободная личность прессуется временем. Как личность Москва являет собою одно, а время пытается вылепить из нее нечто другое, не имеющее ничего общего с ней самой – при том, что эта личность какими-то своими качествами вполне соответствует его требованиям. Но только отчасти; а нужно, очевидно – чтобы целиком. Да и критерии счастья у Москвы совершенно другие, чем у ее строящих прагматичные планы современников.
Дело вовсе не в требованиях социалистической эпохи, под которую Москве, похоже, и подстраиваться-то не надо: она как раз признает ее своей. Но она, еще в раннем детстве написавшая «Рассказ девочки без отца и матери о своей будущей жизни»: «Нас учат теперь уму, а ум в голове, снаружи ничего нет. Надо жить по правде с трудом, я хочу жить будущей жизнью, пускай будет печенье, варенье, конфеты и можно всегда гулять в поле мимо деревьев. А то я жить не буду, если так, мне не хочется от настроения. Мне хочется жить обыкновенно со счастьем. Вдобавок нечего сказать», - вообще никакой эпохе не соответствует, тем более – эпохе форматирования социализма. Да и времени как таковому, ибо времени в котором она живет, она знать не хочет, прошлого – не помнит, все ее стремления направлены в неопределенное и все никак не хотящее определяться будущее.
Конечно, все герои «Счастливой Москвы», молодые спецы, дети, так сказать, Великого Октября, одержимы будущим и стремятся проложить к нему свой личный путь. Но Москва, в отличие от них всех, ищущих этот путь на общественных рубежах, все таки исключение из правил: она, по собственным ее словам, не дочь революции, но ее сирота, при том - человек свободы, дали и выси. Вернее – могла бы таковым стать, если бы не ряд обстоятельств, диктуемых эпохой.
«Из природы ей нравились больше всего ветер и солнце. Она любила лежать где-нибудь в траве и слушать о том, что шумит ветер в гуще растений, как невидимый, тоскующий человек, и видеть летние облака, плывущие далеко над всеми известными странами и народами; от наблюдения облаков и пространства в груди Москвы начиналось сердцебиение (то сердцебиение, которое превратно будет восприниматься в дальнейшем всеми ее мужчинами), как будто ее тело было вознесено высоко и там оставлено одно. Потом она ходила по полям, по простой плохой земле и зорко, осторожно всматривалась всюду, еще только осваиваясь жить в мире и радуясь, что ей все здесь подходит – к ее телу, сердцу и свободе».
Ухода в небо, правда, так и не происходит: Москва, перейдя некий нежелательный для себя рубеж, но так и не найдя себя, чувство дали и выси очень скоро потеряет. А вот чувство свободы в ней до поры останется и будет еще долго определять зигзаги ее непростой судьбы. Вскоре после замужества, почувствовав «томящий стыд своей жизни, не сознавая точно, от чего именно», она оставит мужа, «не думая ничего, как пустая и усталая». О пустоте, об усталости Москвы будет написано еще не раз, что может дать повод воспринять ее в качестве некоего монстра, в облике которого постоянно чувствуется нечто противоестественное, нечеловеческое, автоматическое, может, демоническое даже. Наиболее оно ощущается в чудовищной сцене совокупления Москвы и после долгой разлуки нашедшего ее изобретателя Сарториуса в присутствии умершего, как они полагают, теперешнего сожителя, который под конец оживает, чтобы с согласия сожительницы, сменив соперника, залезть к ту же кровать для продолжения того же дела, которое только что завершил предшественник. Сцена заканчивается словами: «Москва спала, отчужденно повернувшись к стене прелестным лицом» (стоит вспомнить, какое значение имеет этот термин в православии). Добавим сюда и не менее странную фразу сожителя, весьма умного и проницательного человека, до революции сочинявшего замечательные стихи и писавшего неплохие картины, прозвучавшую еще раннее: «поласкай меня, тогда я скорей исчахну, к утру ангелом стану – умру» и предполагающую наличие у Москвы неких вампирических свойств (не лишено курьезности, что ее сожитель при этом готов воспринять себя как религиозно пострадавшего мученика – уместно вспомнить в данном контексте бытовое выражение: терпелив как ангел), а также более раннюю фразу этого же персонажа, обращенную к тому же адресату: «ты жизни нашей сугубой не знаешь», заставляющую воспринимать Москву как выходца из нездешности, и в определенной степени так оно и есть.
И, наконец, весьма странное имя, отсылающее скорее не к временным или к родовым категориям, но пространственным; таким образом, оно может иронически применимо к облику стерилизованного, отмеченного каким-то неживым светом пространства эпохи строящегося коммунизма, которое мы неоднократно могли видеть в предвоенных художественным кинолентах, где как слепые кутята тычутся в различные его углы вожделеющие Москвы мужчины, у которых именно неопределенность жизни, которую они проживают, ассоциируется с понятием счастья. Получается, что когда жизнь упорядочится, счастье закончиться и исчезнет (собственно, так и случилось на излете нашей однозначно великой и в одночасье растворившейся в небытии страны). Точно так же все происходит и в романе: все влюбленные в Москву, не находя сил признать ее в том неопределенном качестве, в каком воспринимает она себя, видят в ней прежде всего объект вожделения – а она не находит в себе ничего такого, чтобы переубедить их в обратном. Более того - она лично предпринимает ряд экспериментов над собой в этой области, а в финале ее последним партнером становится кончающийся человек Комягин, тот самый бывший художник т поэт, у которого для дальнейшей жизни не осталось ничего, кроме мощной сексуальной потенции. Но, естественно, результат экспериментов над собственным естеством ни ее саму, ни ее мужчин отнюдь не радует. Реализация мощных человеческих потенций исключительно в половой сфере – хочет или не хочет того их реализатор – это ли не трагедия? Трагедии не только Москвы, но и едва ли не всех мужчин, оказавшихся в сфере ее мощного притяжения и буквально сплющенных им. Потому, что – и в этом обратная сторона этого же свойства - она никогда не может быть верна одному мужчине, так как никогда не сможет «променять весь шум жизни на шепот одного человека». Показательно, что после первого совокупления с изобретателем Сарториусом, отвергнув его чувство и положив конец их отношениям «она была снова счастлива, она хотела уйти в бесчисленную жизнь, давно томящую ее сердце предчувствием неизвестного наслаждения, - в темноту стеснившихся людей, чтобы изжить с ними тайну своего существования». Сарториус, напротив, после расставания с нею «чувствовал, как в тело его вошла грусть и равнодушие к интересу жизни, - смутные и мучительные силы поднялись внутри его и затмили весь ум, всякое здравое действие к дальнейшей цели. Но Сарториус согласен был утомить в объятиях Москвы все нежное, странное и человеческое, что появилось в нем, лишь бы не ощущать себя так трудно…» По причине таких борений «Счастливая Москва» представляется трагедией в античном духе со сражающимися с судьбой титанами (увы, без катарсиса). В их числе - главная героиня, ведь и она сама в своем роде личность потенциально титаническая. Поэтому желательно понять, что ж это за нежелательный рубеж, к которому едва ли сознательно на протяжении жизни то и дело стремится Москва, пока не переходит его уже окончательно и безвозвратно.
Уже на первых страницах у девочки, некогда носившей имя Оля, которую Советская власть переименовала в Москву, отмечается «знак честности ее сердца, которое не успело стать бесчестным, хотя и долго было несчастливым». Честность-бесчестье-несчастье – не игра слов по созвучию: таких приемов Платонов, всегда существующий в самой глубине материала («Чтобы что-нибудь полюбить, я всегда должен сначала найти какой-то темный путь для сердца, к влекущему меня явлению, а мысль шла уже вслед») никогда себе не позволял.
Стало ли бесчестным сердце Москвы? Может, и стало, но мы об этом никогда не узнаем. Она останется в нашей памяти героев романа такой, какой была на заре своей жизни – с потенциями гармонического человека, могшего по мере взросления соединить свой пульс с пульсом вселенной, а заодно и всех ее обитателей. Ритм этого пульса описывается несколько раз, его слышат близкие Москве люди.
«…было так тихо всюду, что Божко слышал биение сердца Москвы Ивановны в ее большой груди; это биение происходило настолько ровно, упруго и верно, что, если можно было бы соединить с этим сердцем весь мир, оно могло бы регулировать теченье событий, – даже комары и бабочки, садясь спереди на кофту Москвы, сейчас же улетали прочь, пугаясь гула жизни в ее могущественном и теплом теле. Щеки Москвы, терпя давление сердца, надолго, на всю жизнь приобрели загорелый цвет, глаза блестели ясностью счастья, волосы выгорели от зноя над головой и тело опухло в поздней юности, находясь уже накануне женственной человечности, когда человек почти нечаянно заводится внутри человека».
Недаром один из любовников Москвы видит в ней «силу и светящееся воодушевление, скрытые за скромностью и даже робостью». Некоторые даже считают нужным сказать ей об этом вслух – с целью уяснить для себя что-то по поводу ее самой, или даже на этой почве сделать какие-то важные общечеловеческие, иногда очень далеко уводящие выводы:
«Они сели рядом и среди речей, славы и приветствий Самбикин ясно услышал пульсацию сердца в груди Москвы.
Он спросил ее шепотом в ухо:
- Отчего у вас сердце так стучит?..Я его слышу!
- Оно летать хочет, и бьется, - с улыбкой прошептала Москва Самбикину. – Я ведь парашютистка!
«Человеческое тело летало в каких-то погибших тысячелетиях назад, - подумал Самбикин. – Грудная клетка человека представляет свернутые крылья».
Он попробовал свою нагретую голову – там тоже что-то билось, желая улететь из темной одинокой пустоты».
Темная одинокая пустота тоже не раз будет возникать на страницах романа, в том числе – и в связи с главнейшим органом героини: ее блуждающим сердцем, которое «долго содрогается в человеке от предчувствия, сжатое костями и бедствием ежедневной жизни, и наконец бросается вперед, теряя тепло на холодных прохладных дорогах».
Собственно, как это и происходит с Москвой, которая, став парашютисткой, нарушает хрупкое, в сущности, равновесие между своим сердцем и миром. Происходит это во время прыжка из самолета: пытаясь закурить в воздухе, Москва поджигает парашют. Сцена заканчивается пронзительным прозрением Москвы: «Вот какой ты, мир, на самом деле! Ты мягкий, только когда тебя не трогаешь!»
Затем это же прозрение посетит ее еще раз, во время слушания музыки Бетховена, исполняемой по ее заказу уличным скрипачом и являющейся явным соответствием одновременно и времени, в котором она живет, и ее внутреннего мира – такого, каким предстоит ему стать в будущем: «Весь мир вокруг нее стал вдруг резким и непримиримым – одни твердые тяжкие предметы составляли его и грубая темная сила действовала с такой злобой, что сама приходила в отчаяние и плакала человеческим, истощенным голосом на краю собственного безмолвия. И снова эта сила вставала со своего железного поприща и громила со скоростью вопля какого-то своего холодного, казенного врага, занявшего своим мертвым туловищем всю бесконечность. Однако эта музыка, теряя всякую мелодию и переходя в скрежещущий вопль наступления, все же имела ритм обыкновенного человеческого сердца и была проста, как непосильный труд из жизненной нужды». Несколько позже она будет воспринимать эту музыку несколько по другому: как «возбуждающую ее жизнь на исполнение высшей судьбы». Судьбы, повторим еще раз, так в полноте и не осуществившуюся.
Пока же приземление Москвы, воспользовавшейся запасным парашютом, происходит благополучно, и она, временно побывшая огненным факелом, запечатлевается на обложках отечественных и иностранных журналов, что не помешало ее увольнению из рядов воздухоплавателей с мотивировкой: «атмосфера – это не цирк для пускания фейерверков из парашютов», а увольнение, в свою очередь, не помешало предоставлению ей двухкомнатной квартиры, что само по себе может считаться фактом зачисления в среду элитной советской молодежи, так как «в этом доме жили летчики, конструкторы, различные инженеры, философы, экономические теоретики и прочие профессии». Здесь бывшая парашютистка, а теперь временно безработная Москва сполна отдается своему любимому занятию – мечтаниям. Причем мечтаниям, чрезвычайно созвучным эпохе – той самой эпохе, из которой она в реальной жизни то и дело выпадает; или же, что более вероятно, она выталкивает ее из себя.
«Ее воображение работало непрерывно и еще никогда не уставало, — она чувствовала в уме происхождение различных дел и мысленно принимала в них участие; в одиночестве она наполняла весь мир своим вниманием и следила за огнем фонарей, чтоб они светили, за гулкими равномерными ударами паровых копров на Москве-реке, чтоб сваи входили прочно в глубину, и думала о машинах, день и ночь напрягающихся в своей силе, чтоб горел свет в темноте, шло чтение книг, мололась рожь моторами для утреннего хлебопечения, чтоб нагнеталась вода по трубам в теплый душ танцевальных зал и происходило зачатье лучшей жизни в горячих и крепких объятиях людей — во мраке, уединении, лицом к лицу, в чистом чувстве объединенного удвоенного счастья. Москве Честновой не столько хотелось переживать самой эту жизнь, сколько обеспечивать ее — круглые сутки стоять у тормозного крана паровоза, везя людей навстречу друг другу, чинить трубу водопровода, вешать лекарства больным на аналитических весах — и потухнуть вовремя лампой над чужим поцелуем, вберя в себя то тепло, которое только что было светом. Свои интересы она при этом не отвергала — ей тоже надо было девать куда-нибудь свое большое тело, — она их лишь откладывала до более дальнего будущего: она была терпелива и могла ждать».
Фраза «ей надо было девать куда-нибудь свое большое тело» заставляет предполагать некоторую активность Москвы в половой жизни, подтвержденную далее замечанием автора «она быстро предавалась своему чувству и не играла женскую политику равнодушия», что вступает в изрядное противоречие с ее настоящим жизненным предназначением и даже дает повод именовать ее на всю жизнь влюбившемуся в нее Сарториусу дурой – и не без основания, ибо не чуждое любой женщине вздорное начало в ней сказывается очень непосредственно – впрочем, как и все остальное, по поводу чего Платонов, отметив склонность ее к чуши «пробирающейся к ней в сердце из ее лгущего, пошлого ума, грустно осознающего свое постыдное пространство» доверяет одному из ее возлюбленных, наблюдающих за ней в эту минуту, небезосновательное соображение: «глупость – это естественное выражение блуждающего чувства, еще не нашедшего своей цели и страсти», а другому позволяет «наслаждаться Москвой независимо от ее поведения; он уже любил ее как живую истину и сквозь свою радость видел ее неясно и неверно».
Поэтому, и еще по многим другим причинам, отчасти уже отмеченным, мечтательное счастье Москвы в престижном доме длится недолго. И поэтому далее ей предлагаются гораздо более сниженные варианты указанного предназначения: в начале – в военкомате, где «равнодушная идеологичность убранства…и незначительность служащих лиц обещали пришедшему человеку бесчувствие, происходящее от бедного или жестокого сердца» в изрядной степени компенсируется ее живым, одной ей присущим человеческим участием к посетителям; затем – на строительстве метро, где на ее месте мог бы быть любой из ее более стандартных сверстников. Неслучайно работа в метро заканчивается вообще уж откровенной катастрофой, которую Платонов не очень-то маскирует под несчастный случай, а уже после этого намечается некий слом в ее прежде цельном сознании: «Она почти всюду замечала радость или удовольствие, однако ей самой делалось все более печально. Все люди были заняты лишь взаимным эгоизмом с друзьями, любимыми идеями, теплом новых квартир, удобным чувством своего удовлетворения. Москва не знала, к чему ей привязаться, к кому войти, чтобы жить счастливо и обыкновенно. В домах ей не было радости, в тепле печей, и в свете настольных абажуров она не видела покоя. Она любила огонь дров в печах и электричество, но так, как если бы сама была не человеком, а огнем и электричеством — волнением силы, обслуживающей мир и счастье на земле», но многое от прежней Москвы пока остается при ней. В ресторане, куда она заходит перед тем, как поступить на работу в метро, к ней подходят незнакомые люди, чтобы исповедоваться ей в том, чего доселе не открывали никому. «Ее приглашал всякий человек из публики, находя в ней что-то утраченное в самом себе. Вскоре иные даже плакали, уткнувшись в платье Москвы, потому что опились вина, другие же исповедовались с точными подробностями», ибо «здесь человек никак не мог вырваться из обычного – из круглого шара своей головы, где катались мысли по давно проложенным путям, из сумки сердца, где старые чувства бились как пойманные, не впуская ничего нового…». Москве же из окна сферического зала ресторана в видится растущее снаружи дерево и она по какому-то наитию отожествляет с ним свою будущую судьбу: «Ветви дерева росли прямо вверх и в стороны, никуда не закругляясь, не возвращаясь назад, и кончалось дерево резко и сразу – там, где ему не хватало сил и средств уйти выше. Москва глядела на это дерево и говорила себе: «Это я, как хорошо! Сейчас уйду отсюда навсегда». А ведь прежде жизнь в представлении Москвы, как отмечал раннее Платонов, «была долга, впереди простиралось почти бессмертие. Ничто не пугало ее сердце, и на защите ее молодости и свободы дремали где-то пушки вдали, как спит гроза в облаках».
Почему же не способна остановится в своем внутреннем, а позже и во внешнем движении Москва, почему она не может зафиксировать себя в какой-то определенной точке социализированного пространства? Очевидно потому, что если кому-то в какой-то степени и возможно сочетать в себе свойства человеческого существа с природными стихиями, то быть одновременно и отдельной личностью и толпой – уж точно невозможно. Тем более что стихия озабоченной лишь самой собой свободы и поступательное и целенаправленное, причем управляемое со стороны движение единородной в своем стремлении массы, мягко говоря, не очень сочетаются.
Остановить Москву может лишь не считающаяся с идеологическим энтузиазмом рука фатума, в качестве которой может восприниматься авария в метро. Платонов, кстати, ее не придумал, просто воспользовался фактом ее наличия для своих целей, - такая действительно произошла при строительстве станции метро в районе Каланчевской площади, была ликвидирована сплоченными усилиями комсомольцев (событие запечатлено в известном фильме «Добровольцы» - и Москва вполне могла быть в числе персонажей), - после чего станция, которую планировали назвать Каланчевской, срочным образом вместе с самой площадью была переименована в Комсомольскую. Платонов повествует об этом важнейшем для дальнейшей судьбы героини событии в несвойственной ему сухой информационной манере: «Зимою в два часа ночи подъемник 18-й шахты метрополитена сработал по аварийному сигналу – наверх была поднята девушка-шахтер и вызвана карета скорой помощи. У той девушки была размята правая нога в верхней полной части, выше колена».
С этой минуты начинается новый этап жизни Москвы Честновой. Оперирование ее Самбикиным в экспериментальной клинике предваряет смерть ребенка, железой которого, с «неистраченным зарядом живой энергии», извлеченной из горла, Самбикин спасает жизнь Москве. Операция предваряется размышлением Самбикина о взаимозависимости живого и мертвого: «…жизнь есть лишь одна из редких особенностей вечно мертвой материи и эта особенность скрыта в самом прочном составе вещества, поэтому умершим нужно так же мало, чтобы ожить, как мало было, чтобы они скончались. Более того, живое напряжение снедаемого смертью человека настолько велико, что больной бывает сильнее здорового, а мертвый – жизнеспособней живущих». Если спроецировать это размышление на дальнейшее выздоровление Москвы, то оно может стать еще одним аргументом в пользу высказанного нами раннее соображение относительно вампирических свойств героини, чему, впрочем, противоречат сюрреалистические ее видения во время операции.
«Москва лежала спокойная; неопределенное грустное сновидение плыло в ее сознании, - она бежала по улице, где жили животные и люди, - животные отрывали от нее куски тела и съедали их, люди впивались и задерживали, но она бежала от них далее, вниз, к пустому морю, где кто-то плакал по ней; туловище ее ежеминутно уменьшалось, одежду давно содрали люди, наконец остались торчащие кости, - тогда и эти кости начали обламывать попутные дети, но Москва, чувствуя себя худой и все более уменьшающейся, терпеливо убегала дальше, лишь бы никогда не возвращаться в страшные покинутые места, откуда она убежала, лишь бы уцелеть, хотя бы в виде ничтожного существа из нескольких сухих костей... Она упала на жесткие камни и все, кто рвал и ел ее в бегстве, навалились на нее тяжестью.
Москва проснулась. Склонившись, ее обнимал Самбикин и пачкал кровью ее груди, шею и живот…»
Самбикин, отличающийся необычными эротическими влечениями, в том числе – к трупам, раннее никак не могший решить, стоит ли любить Москву или нет, теперь, когда она стала инвалидом, влюбляется в нее окончательно, предварительно отослав к себе домой ее отрезанную ногу – очевидно, руководствуясь упомянутым эксцентричным эротическим чувством, хотя до этого «стучал себя по голове, чтобы опомниться от любви, анализировал свое состояние физиологически и психически, смеялся, усиленно морща лицо, но ничего не мог достичь». В чем есть и положительный момент, ибо далее «неизвестная, странная жизнь открывалась перед ним – жизнь горя и сердца, воспоминаний, нужды в утешении и в привязанности», - жизнь, раннее чуждая ему, желавшему переделать природу по своему произволу. Теперь он убедился, насколько это беспочвенно, а, следовательно, невозможно. После чего уезжает вместе с ней на курорт, а потом все таки оставляет ее.
Москва же и без того близка уже к тому, чтобы поставить на себе крест: «Выздоровлю, пойду замуж за Комягина, - думала Москва по ночам, слушая, как распространяется в огромном воздухе музыка жактовского скрипача. – Я теперь хромая баба». И таки осуществляет свое намерение, что не мешает ей позже оставить мужа и раствориться в неизвестности, из которой она раннее пришла в специфическую действительность социализма. Ей так и предстоит остаться бесприютной, хотя мир, в котором живет Москва и влюбленные в нее молодые специалисты, многое может им всем дать (собственно, и дает). Но лишь в материальном смысле. А вот главное, чем определяется человек в отличие от других биологических видов – душу, он им дать не может, поскольку сам до крайности обездушен и этой своей обездушенностью в той или иной мере заражает своих постояльцев. Кстати, я отнюдь не оговорился, назвав возлюбленных Москвы специалистами, а не людьми, так как личностям с тонко развитым духовным аппаратом социалистическая действительность всегда предпочитала узко прагматичных и узко квалифицированных спецов, у которых на первом плане стояли их профессиональные обязанности . Что, впрочем, было естественно в эпоху превращения страны из крестьянской в индустриальную.
Здесь уместно задаться вопросом: а учитывает ли социалистическая идея категорию свободы вообще и свободу личности в частности. Наверное нет, ибо в своих материалистических понятиях социализм под видом человека подразумевает лишь телесную оболочку, целиком зависящую от внешних влияний, накачиваемую извне и отвергающий внутреннюю данность в виде Богом данной души. Понятно, что при таком раскладе сама душа в человеке становиться лишней, что чутко подмечает Платонов: с исчезновением Москвы из жизни влюбленных в нее спецов их мир этой самой души и лишается. Все они, конечно, вопреки своему убеждению продолжают о ней думать, но лишь как о ненужном для новой социалистической жизни рудименте, а поэтому искать ее в неких чуждых областях. Одни, как Божко, предлагающий тост за технику – истинную душу человека, предполагает, как нетрудно убедится из этого тоста, местонахождение души вне его; хирург Самбикин ищет ее внутри человека, но место, где она, по его мнению, должна находится, еще более эксцентрично.
Два помощника Самбикина вынули из одного ящика тело молодой женщины и положили перед хирургом на наклонный стол, похожий на увеличенный пульт музыканта.
Самбикин отрезал женщине левую грудь, затем снял всю решетку грудной клетки и с крайней осторожностью достиг сердца. Вместе с помощниками он выбрал сердце и инструментами бережно положил его в стеклянный цилиндр – для дальнейшего исследования; тот цилиндр взяли и унесли в лабораторию.
Самбикин вскрыл сальную оболочку живота и затем повел ножом по ходу кишок, показывая, что в них есть: в них лежала сплошная колонка еще не обработанной пищи, но вскоре пища окончилась и кишки стали пустые. Самбикин медленно миновал участок пустоты и дошел до начавшегося кала, там он остановился вовсе.
–Видишь!– сказал Самбикин, разверзая получше пустой участок между пищей и калом.– Эта пустота в кишках всасывает в себя все человечество и движет всемирную историю. Это душа – нюхай!
Сарториус понюхал.
–Ничего,– сказал он.– Мы эту пустоту наполним, тогда душой станет что-нибудь другое.
–Но что же?– улыбнулся Самбикин.
–Я не знаю что,– ответил Сарториус, чувствуя жалкое унижение.– Сперва надо накормить людей, чтобы их не тянуло в пустоту кишок.
–Не имея души, нельзя ни накормить никого, ни наесться, – со скукой возразил Самбикин.– Ничего нельзя.
Сарториус склонился ко внутренности трупа, где находилась в кишках пустая душа человека. Он потрогал пальцами остатки кала и пищи, тщательно осмотрел тесное, неимущее устройство всего тела и сказал затем:
– Это и есть самая лучшая, обыкновенная душа. Другой нету нигде».
Другие же герои, на всем протяжение повести ощущая в себе наличие души, а то даже и наверняка догадываясь о ее присутствии, даже к концу повести не будут знать, что с нею делать и как ее использовать хотя бы для собственных целей – слишком отвлеченно воспринимается ими этот орган относительно конкретных и рациональных задач времени:
- Все уже спят в Москве, одна только сволочь наверно не спит, вожделеет и томится.
– А, это кто ж такое, Семен Алексеевич?– спросил Божко.
– Те, у которых есть душа.
Божко готов был из любезности к ответу, но промолчал, так как не знал, что сказать.
– А душа есть у всех,– угрюмо произнес Сарториус; он в усталости положил голову на стол, ему было скучно и ненавистно, ночь шла утомительно, как однообразный стук сердца в несчастной груди.
– Разве с точностью открыто, что повсеместно есть душа? –спросил Божко.
– Нет, не с точностью,– объяснил Сарториус.– Она еще неизвестна.
Сарториус умолк; его ум напрягся в борьбе со своим узким, бедствующим чувством, беспрерывно любящим Москву Честнову, и лишь в слабом свете сознания стоял остальной разнообразный мир.
– А нельзя ли поскорее открыть душу, что она такое,– интересовался Божко.– Ведь и вправду: пусть весь свет мы переделаем и станет хорошо. А сколько нечистот натекло в человечество за тысячи лет зверства, куда-нибудь их надо девать! Даже тело наше не такое, как нужно, в нем скверное лежит.
– В нем скверное, – сказал Сарториус.
– Когда я юношей был, – сообщил Божко,– я часто хотел – пусть все люди сразу умрут, а я утром проснусь только один. Но все пусть останется: и пища, и все дома, и еще – одна одинокая красивая девушка, которая тоже не умрет, и мы с ней встретимся неразлучно…
Сарториус с грустью поглядел на него: как мы все похожи, один и тот же гной течет в нашем теле!»
И еще кое-что по поводу присущего платоновским героям иррационального ощущения будущего, никак не могущего перерасти в осмысление, что уж говорить о понимании. Еще самого начала, следя за движением и пересечением их судеб, выслушивая их проекты, касающиеся изменения природы и живущего по ее законам человека, можно догадаться даже, что существование самого мира, в котором они живут и параллельно строят варианты будущего в своих мечтах, вряд ли будет продолжительным – по причине того, что он при видимом своем натурализме неопределенен, непостижим, абсурден, руководим ложными ориентирами, и значит лишен конечной цели – при том, что (уж не знаю, по воле ли автора или же без нее) он отнюдь не лишен присутствия рудиментарных воспоминаний о Боге, что наиболее наглядно в сцене, отражающей внутреннее раздвоение молодого героя, который никак не может определиться между тяготением к звездному небу и не отпускающей земной реальности. «Он вышел на балкон, - говорит Платонов, - поглядел на звезды и прошептал старые слова, усвоенные понаслышке: «Боже мой!» Эта сцена – в третьей главе, где описывается пир молодых советских специалистов, достигших тех или иных успехов в своих областях. Тон этому пиру задает, по выражению Платонова, старая песнь на стихи Языкова: Там за валом непогоды /Есть блаженная страна, /Где не темнеют неба своды, /Не проходит тишина, строки которой отражают реалии существования неземного, духовного; но этот смысл доступен, пожалуй, да и то до определенной степени, лишь изобретателю Сарториусу; другим пирующим эта песня дает повод для высказывания собственных искаженных мировоззренческих построений, по преимуществу, утилитарного порядка. Гротесковым и доведенным до крайности выражением подобного рода моделей, как мы узнаем далее, может стать даже молитва: «Кто-то, специально проснувшись, молился Богу шепотом: «Помяни меня, Господи, во Царствии Твоем, я ведь тоже Тебя поминаю,– дай мне что-нибудь фактическое, пожалуйста прошу!». Так же и Сарториус, перед лицом звездного неба шепчущий «Боже мой», не становится от этого прямо же сей же час верующим человеком, о чем дает нам понять сам автор: «прошептал старые слова, усвоенные понаслышке» не забывает присовокупить он.
Дело, конечно, не в религиозных склонностях персонажа: сама поверхность по видимости целеустремленного, но внутри явно чреватого противоречиями мира, строителем которого он вынужден быть, постоянно идет беспричинными трещинами, из обнажившихся бездн лезет сокровенная, таящаяся в глубине лава, субстанция которой иногда обладает частицами святости, но чаще имеет вид мертвенной гнили. Метафорическим отображением подобных состояний предстают несколько эпизодов романа, например оперирование зараженного стрептококками мальчика.
«Самбикин взял резкий, блестящий инструмент и вошел им в существо всякого дела – в тело человека. Острая, мгновенная стрела вышла позади глаз из ума мальчика, пробежала по его телу – он следил за ней воображением – и ударила ему в сердце: мальчик вздрогнул, все предметы, знавшие его, заплакали по нем, и сон его воспоминаний исчез. Жизнь сошла еще ниже, она тлела простой, темной теплотой в своем терпеливом ожидании. «…»
Мозг приближался; выкалывая кости из черепа, Самбикин исследовал их теперь под микроскопом и все еще находил в них гнезда стрептококков. В некоторых местах головы ребенка Самбикин дошел уже до последней костной пластинки, ограждающей мозг, и зачистил ее по поверхности от смертного серого налета. Его руки действовали так, как будто они сами думали и считали каждый допуск движения. По мере удаления стрептококков, их становилось меньше, но Самбикин переходил на сильнейшие микроскопы, которые показывали, что число гноеродных телец, быстро убывая, целиком все же не исчезает. Он вспомнил знаменитое математическое уравнение, выражающее распределение теплоты по пруту бесконечной длины, и прекратил операцию.
Самбикину было ясно, что разверстое, с тысячами рассеченных сосущих кровеносных сосудов, горячее, беззащитное тело больного жадно вбирало в себя стрептококков отовсюду – из воздуха, а особенно – из инструмента, который стерилизовать начисто невозможно».
В продолжении толкования этой метафоры отмечу ещё, что прооперированный мальчик всё-таки умирает, в связи с чем вспоминаются такие же метафоризированные сцены детских смертей в «Чевенгуре» и «Котловане», знаменующие непродолжительность позитивистских социальных иллюзий, питаемых персонажами этих произведений.
Далее всех в отказе от них, вплоть до полного их истребления идёт технический гений Сарториус, отказавшийся не только от реализации себя в качестве выдающегося советского ученого («Сарториус потерял славу всесоюзного инженера; он целиком сосредоточился в делах малозаметного учреждения и его постепенно упустили из виду бывшие товарищи и знаменитые институты»), - но и от бывшего себя в самом прямом смысле: вследствие покупки чужого паспорта он становится совершенно другим человеком, женится на простой женщине и в результате начинает жить жизнью, очень близкую к той, которая принята у простых, ничем не примечательных людей. Это перерождение одного человека в другого предваряется значащей, частой в Библейских книгах, фразой: «он стал как неживой некоторое время».
Далее - не менее значащий период, дающий понятие о причинах этого перерождения и предполагающий возвращение Сарториуса, несмотря на его нежелание, к эпохе до научной, когда люди меньше знали о мире, но понимали его гораздо лучше, нежели при одержимости познавательной научной мыслью, вследствие чего действительность в сознании человека рассыпалась на миллионы не слагаемых в одно целое осколков, значимость которых постоянно подвергается сомнению: «Вместо Бога сейчас вспомнил умерших Сарториус и содрогнулся от ужаса жить среди них,– в том времени, когда не сводили лесов, убогое сердце было вечно верным одинокому чувству, в знакомстве состояла лишь родня и мировоззрение было волшебным и терпеливым, а ум скучал и плакал по вечерам при керосиновой лампе или в светящий полдень лета – в обширной, шумящей природе. «» Сердце его стало как темное, но он утешил его обыкновенным понятием, пришедшим ему в ум, что нужно исследовать весь объем текущей жизни посредством превращения себя в прочих людей. Сарториус погладил свое тело по сторонам, обрекая его перемучиться на другое существование, которое запрещено законом природы и привычкой человека к самому себе. Он был исследователем и не берег себя для тайного счастья, а сопротивление своей личности предполагал уничтожить событиями и обстоятельствами, чтобы по очереди в него могли войти неизвестные чувства других людей. Раз появился жить, нельзя упустить этой возможности, необходимо вникнуть во все посторонние души – иначе ведь некуда деться; с самим собою жить нечего, и кто так живет, тот погибает задолго до гроба». Или, согласно еще одному, черновому варианту второй половины заключительной фразы, взятому Платоновым в квадратные скобки: «можно только вытаращить глаза и обомлеть от идиотизма». Поэтому, может быть, новая жизнь героя внешне отличается неким пародийным или даже курьезным смирением перед новыми обстоятельствами; но ведь этот факт, при учете крайне своеобразной поэтики Платонова, в особенности при выражении сверхзадач, не исключает серьезности замысла. «Всю свою юность Сарториус провел в изучении физики и математики, - могли мы прочесть раннее, - он трудился над расчетом бесконечности как тела, пытаясь найти экономический принцип ее действия. Он хотел открыть в самом течении человеческого сознания мысль, работающую в резонанс природы и отражающую поэтому всю ее истину – хотя бы в силу живой случайности, и эту мысль он надеялся закрепить навеки расчетной формулой. Но он сейчас не сознавал никакой мысли, потому что в голову его взошло сердце и там билось над глазами».
В результате читатель имеет возможность построения различных догадок по поводу дальнейшей участи героя, только-только начавшего понимать свое человеческое предназначение, которое обретается отнюдь не в гуще социальной или научной кипучей жизни: он может ощутить его только отъединившись от нее, уединившись внутри себя, чтобы затем проделать обратный путь к отдельно взятым людям – и все благодаря влиянию неизвестно откуда появившейся и неизвестно куда ушедшей таинственной, непостижимой, манящей Москвы – существа, которое способно было одушевить не только Сарториуса, но и впервые явленное миру и уже теперь забродившее чуждыми ему дрожжами пространство почти что построенного социализма. Однако этого, к сожалению, не случилось.