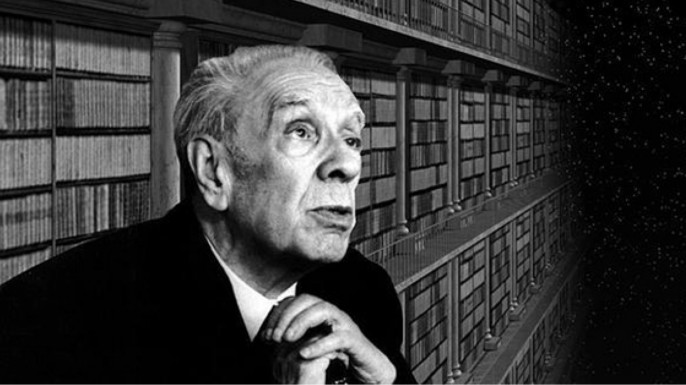Бог занимает далеко не последнее место в творчестве выдающегося аргентинского писателя, можно сказать даже – первое; во всяком случае – одно из первых. Другой вопрос – что за Бог, какой именно, обладатель каких свойств. С этим мы и попытаемся разобраться.
Предваряя означенный процесс, предупреждаю, что с моей стороны это будут размышления не философа, ни культуролога, ни тем более богослова (ни на одну из этих ипостасей я попросту не тяну), но обычного рядового верующего христианина, пытающегося сохранить трезвый взгляд и здоровую голову при напоре модернистских трактовок относительно христианских основ и самого Бога, предлагаемых Борхесом.
Начнем, пожалуй, с того, что у Борхеса мы можем найти едва ли не все модели заблуждений, характерные для западного стремительно расцерковляющегося, а то и вовсе расцерковленного сознания – и ни одной, хоть как-то проникнутой мировоззренческим ощущением, выражающей единство истины.
Борхес, по его собственному признанию, вообще предпочитает оценивать религиозные идеи наравне с философскими (хотя философия и богословие – это довольно отдаленные друг от друга предметы), еще более - по их эстетическому воздействию на самого себя, что, вообще-то, весьма характерно для поэта, ставящего поэзию выше религиозной морали.
Читая Борхеса, впору задуматься: что такое, собственно говоря, есть сознание современного космополита, точку зрения которого выражает он в своих парадоксальных эссе и рассказах, да и самой своей особой, и как оно пришло к тому, что Бог в его представлении предстает частью его самого, а не наоборот. Не потому ли Бог во многих эссе Борхеса соответственно взглядам автора и ему подобных религиозных рационалистов наделен функциями какого-то хитроумного, с предварительно запрограмированными функциями, автомата, подвластного человеческим догадкам (правда, не всегда), но совершенно лишенного личностных, хотел было даже сказать - природно-органических, да и вообще каких бы то ни было, свойств. Характерно, что один из рассказов-эссе Борхеса, где предпринимается очередная попытка определить сущность Бога, носит недвусмысленное название «От Некто к Никто». «Скотт Эриугена, что значит Ирландский Ирландец, - можем прочесть мы там, - разрабатывает учение пантеистического толка, по которому вещи суть теофании (божественные откровения или богоявления), за ними стоит сам Бог, который и есть единственная реальность, но Он не знает, что Он есть, потому что Он не есть никакое «что» и Он непостижим ни для самого Себя, ни для какого-либо ума. Он не разумен, потому что Он больше разума, Он не добр, потому что Он больше доброты. Неисповедимым образом Он оказывается выше всех атрибутов, отторгая их. В поисках определения Иоанн Ирландский прибегает к слову «nihilum», то есть «ничто». Бог есть первоначальное ничто, с которого началось творение, creatio ex nihilo190, бездна, в которой возникли прообразы вещей, а потом вещи. Он есть Ничто и еще раз Ничто, и те, кто Его так понимали, явственно ощущали, что быть Ничто – это больше, чем быть Кто или Что. Шанкара тоже говорит о том, что объятые глубоким сном люди – это и мир, и Бог».
Здесь не лишне заметить, что Борхес, в текстах своих произведений использующий вероучительные моменты различных эзотерических (и экзотических, в том числе) учений, более всего, конечно, гностических (что понятно, если помнить, какое большое значение в его жизни занимает мотив зеркал, одновременно составляющих содержание большей части его снов), апеллирует к каббале, буддизму, мусульманству, очень близким его мышлению, с одинаковой легкостью постигая различные их аспекты, но зато относительно редко прибегает к классическим христианским вероучительным источникам; а если и обращается – то к переосмысленным в самую худшую сторону. И никогда не обращается (самый, пожалуй, разительный пример его равнодушия беспримесному христианству), даже к весьма привлекательной для чисто культурологического исследования идеи христианской Троицы. Правда, в Вавилонской библиотеке или в Зеркале загадок можно, при желании, вычленить присутствующую там идею Бога-Слова, но и здесь желание это должно быть очень большим и уж наверняка целенаправленным.
В «Приближении к Альмутасиму», замысел которого (но не воплощение его) я чрезвычайно ценю, Борхес предлагает нам несколько вариантов приближения человека к Богу (кстати, один из них он более развернуто заставляет реализовывать героя рассказа «В кругу руин»), - но в перечне их вариант христианского сближения занимает едва ли не самое последнее место: оно для во всех смыслах модерниста Борхеса слишком примитивно, поскольку лишено столь любимой им изощренности. А ведь Бог по существу не сложен, скорее, как раз - прост; правда, простота эта особого рода и доступна далеко не всем (менее всего – головно мыслящим постмодернистам-интеллектуалам).
Есть, например, в «Приближении к Альмутасиму» одна довольно таки парадоксальная фраза о святом как о человеке, наиболее приблизившимся к Богу, который, тем не менее, отстоит от него далее, чем простой неверующий торговец, корреспондирующая в сознании православного верующего с одним из эпизодов жития преподобного Антония Великого, отправленного Богом учиться святости у ничем ни примечательного, кроме внутреннего смирения, сапожника; однако же, думаю, даже не читавшим рассказ, но знающим Борхеса, легко догадаться, насколько смещены им акценты относительно предполагаемого первоисточника.
Здесь будет уместно, пожалуй, сказать несколько слов касательно заимствований (иногда переосмысленных, но чаще просто перевранных – будем называть вещи своими именами) из православных святых отцов, и прежде всего о том, что Борхес в православном Боге не принимает. В том же ценимом мною «Приближении к Альмутасиму» имеется ряд положений, по которым можно догадываться (почти наверняка), каким мог бы предстать Бог Христос в сознании автора, а заодно – и о качестве его веры.
Собственно, сам рассказ, если кто не помнит, является своеобразным метатекстом, а именно изложением содержания несуществующего, придуманного самим Борхесом детективного, на самом же деле – мистического романа, написанного несуществующим же автором. Сюжет предоставляю пересказать самому Борхесу.
«Краткое содержание таково: некий человек, неверующий и сбежавший с родины студент, с которым мы познакомились, попадает в общество людей самого низкого пошиба и приспосабливается к ним в своеобразном состязании в подлости. Внезапно - с мистическим ужасом Робинзона, видящего след человеческой ноги на песке, - он замечает какое-то смягчение подлости: нежность, восхищение, молчание одного из окружающих его подонков. "Как будто в наш разговор вмешался собеседник с более сложным сознанием". Студент понимает, что негодяй, с ним разговаривающий, не способен на такой внезапный взлет; отсюда он заключает, что в том отразился дух какого-то друга или друга друга друга. Размышляя над этим вопросом, студент приходит к мистическому убеждению: "Где-то на земле есть человек, от которого этот свет исходит; где-то на земле есть человек, тождественный этому свету". И студент решает посвятить свою жизнь поискам его. Общее направление сюжета уже просматривается: ненасытные поиски души по слабым отблескам, которые она оставила в других душах: в начале легкий след улыбки или слова; в конце - разнообразное и яркое свечение разума, воображения и добра. По мере того как расспрашиваемые люди оказываются все более близко знавшими Альмутасима, доля его божественности все увеличивается, но ясно, что это лишь отражения. Здесь применима математическая формулировка: насыщенный событиями роман Бахадура - это восходящая прогрессия, конечный член которой и есть явленный в предчувствии "человек по имени Альмутасим". Непосредственный предшественник Альмутасима - необычайно приветливый и жизнерадостный перс-книготорговец; предшественник книготорговца - святой... После многих лет студент оказывается в галерее, "в глубине которой дверь и дешевая циновка со множеством бус, а за нею сияние". Студент хлопает в ладоши раз-второй и спрашивает Альмутасима. Мужской голос - неописуемый голос Альмутасима - приглашает его войти. Студент отодвигает циновку и проходит. На этом роман заканчивается...»
«Если не ошибаюсь, - добавляет к этому Борхес, - разработка подобного сюжета требует от писателя двух вещей: изобретательности в описании различных черт идеального человека и чтобы образ, наделенный этими чертами, не был чистой условностью, призраком. Первое требование Бахадур удовлетворяет вполне, второе же - не берусь сказать, в какой мере. Другими словами, не услышанный нами и не увиденный Альмутасим должен произвести впечатление реального характера, а не набора пустых превосходных степеней. В варианте 1932 года сверхъестественные нотки не часты: "человек по имени Альмутасим" имеет нечто от символа, однако не лишен и своеобразных, личных черт. К сожалению, автор не удержался в границах литературного такта. В варианте 1934 года - том, что лежит передо мной, - роман впадает в аллегорию: Альмутасим - это символ Бога, а этапы пути героя - это в какой-то мере ступени, пройденные душой в мистическом восхождении. Есть и огорчительные детали: чернокожий иудей из Кошина, рассказывая об Альмутасиме, говорит, что у него кожа темная; христианин описывает его стоящим на башне с распростертыми объятиями; рыжий лама вспоминает, как он сидел, "подобно фигуре из жира яка, которую я слепил и которой поклонялся в монастыре в Ташилхунпо". Эти заявления должны внушать идею о едином Боге, приспосабливающемся к человеческим различиям. Мысль, на мой взгляд, не слишком плодотворная. Не скажу этого о другой: о предположении, что и Всемогущий также занят поисками Кого-то, а этот Кто-то - Кого-то еще высшего (или просто необходимого и равного), и так до Конца - или, вернее, до Бесконца - Времени либо в циклическом круговращении. Альмутасим (имя восьмого Аббасида, который был победителем в восьми битвах, родил восьмерых сыновей и восьмерых дочерей, оставил восемь тысяч рабов и правил в течение восьми лет, восьми месяцев и восьми дней) этимологически означает "Ищущий крова". В версии 1932 года тем фактом, что целью странствий был странник, естественно объяснялась трудность поисков; а в версии 1934 года он служит предлогом для упомянутой мною экстравагантной теологии. Перечитывая написанное, чувствую опасение, что недостаточно показал достоинства книги. В ней есть черты очень высокой культуры - например, спор в главе девятнадцатой, где мы предчувствуем друга Альмутасима в одном из спорящих, не опровергающем софизмы другого, "чтобы в своей правоте не быть чересчур победоносным".
Итак, многие черты (свойства) Бога, отраженные в Его земных избранниках-праведниках в трактовке выдуманного им же самим индийского писателя Борхеса категорически не устраивают. Более же, даже больше, чем в «Приближении к Альмутасиму» их совокупность в, так сказать, отрицании выражена в рассказе «Оправдание Василида». Но не только в нем.
Своеобразной вариацией, например, первого стиха первой главы Евангелия от Иоанна, посвященной прояснению сущностной идеи Бога-Слова, может быть рассмотрен рассказ Борхеса «Вавилонская библиотека» с привлечением в качестве объяснений каббалистических понятий. Бог – сферическая книга в непостигаемом пространстве Вавилонской библиотеки – так переосмысляется идея другого борхесовского эссе, носящем название «Сфера Паскаля», в этом не лишенном интеллектуального остроумия, как это часто бывает у Борхеса, рассказе.
И, наконец, наиболее «продвинутый» в этом смысле рассказ «Оправдание Василида», предлагающий читателю целый ряд аргументов против канонического христианства, почерпнутых из христианских источников и, естественно, переосмысленных, в числе которых возможность оправдание зла, Творения Богом мира как случайности, параллельного существования черновых вариантов этого Творения, и т. д. Все заключается двусмысленной фразой: «Не вящая ли слава для Господа быть свободным от творения».
Читаем также в самом конце «Приближения к Альмутасиму» - в двух последних абзацах:
«Работая над этой заметкой, читаем мы, я заглядывал в "Мантик-аль-Тайр" ("Беседу птиц") персидского мистика Фаридаддина Абу Талиба Мухаммада бен Ибрагима Аттара, которого убили солдаты Толуя, сына Чингисхана, при разграблении Нишапура. Пожалуй, будет не лишним изложить содержание этой поэмы. Прилетевший издалека царь птиц Симург роняет в центре Китая великолепное перо; птицы, уставшие от извечной анархии, решают отправиться на его поиски. Они знают, что имя царя означает "Тридцать птиц", знают, что его дворец стоит на Кафе-горе, кольцом опоясывающей землю. Они пускаются в почти бесконечный путь: преодолевают семь долин или морей; название предпоследнего "Головокружение", последнего - "Уничтожение". Многие из странников дезертируют, другие погибают. Пройдя очищение в трудностях, лишь тридцать вступает на гору Симурга. Наконец они его узрели, и тут им становится ясно, что они и есть Симург и что Симург - это каждая из них и все они вместе. (Так же Плотин - "Эннеады", V, 8, 4 - возмещает блаженное расширение принципа тождества: "В умопостигаемом небе все есть повсюду. Каждая вещь есть все вещи. Солнце есть все звезды, и каждая звезда - это все звезды и солнце".)»
Рассказ-эссе Сфера Паскаля, являющийся пространным развитием приведенного фрагмента, тоже можно было бы вполне рассматривать как попытку исследования одного и того же эволюционирующего, вернее, регрессирующего во временах и в странах представления о едином Боге и о Его месте в метафизическом, или, если угодно, спиритуальном пространстве, воссоздаваемого Им из самого себя, которое подвергается к тому же воздействию непрестанной текучестью, от Него независящего. Но точно такой же текучестью, незафиксированностью и непостоянством отмечены у Борхеса и другие его элементы, любой из которых в точно такой же степени может претендовать на роль Бога. Эта излюбленная и часто высказываемая, иногда не в прямую, идея определяет содержание целого ряда борхесовских сочинений, а лучше сказать – вымыслов (по наименованию одной из лучших его книг). Что же касается эссе, о котором идет речь, то, хотя отмеченная идея не является в нем главной, но, поскольку оно может дать некоторые предпосылки для понимания того, как регрессировало понятие о Боге в сознании постепенно отодвигающего Его на задний план каинитской, надо думать, части человечества, выразителем взглядов которого несомненно является Борхес. Если ему верить, Бог не просто составляет единое целое с созданным Им миром, Он намертво в него вписан и является одним из его элементов, причем одновременно в единичности и во множественности, в текучести и в статичности; а идея Его сущности предстает для мыслящий части человечества (мыслящей умом – в отличие от мыслящих умом сердца) в регрессивном движение, начало которого – восхищение непостижимой Вселенной, а конец – темный страх перед Нею – и ничего более. Не думаю, что я слишком уж упрощаю главную мысль «Сферы Паскаля», где, впрочем, присутствует подвергающий сомнению эту раз и навсегда заведенную метафизическую механику момент, а именно: неизбежность понятийных и чувственных смещений, происходящих со сменой каждой новой эпохи, меняющей взгляд на предложенный раннее вариант мироздания.
И еще один аспект этой же темы. Часто у Борхеса происходит смешение божественного и тварного; микро- и макрокосмос мало того, что входят друг в друга, но и меняются местами. Бог, как всем нам известно, действительно может стать человеком (Он и стал им - правда, всего один раз – первый и последний - за всю истории мира), также и тварь до определенной степени обожествиться (об этом свидетельствуют примеры православных святых, правда, не слишком многочисленные). Но речь у Борхеса о другом: если ему верить, возможен еще и переход тварного естества в Божественное – и наоборот; любой элемент мира без всяких усилий с его стороны может стать Богом. При такой сочетаемости возможен вариант человекобога, возможен – бога-предмета, бога-вещи, бога-абстрактного понятия; и, наконец, что тоже не ново, гностической цепочкой нисходящих от высшей до низшей степени нескольких одновременных богов. Есть и более изощренные варианты: например, в уже упоминаемом эссе Борхеса, посвященное выяснению сущности Бога, носящем название «От Некто к Никто».
Сущность же Бога, по Борхесу, постигается исключительно посредством ума, но не чувства (сердечного ума, по терминологии православных подвижников). Не случаен поэтому довольно пренебрежительный авторский подход к личности и взглядам на этот счет Блеза Паскаля, полноту веры которого в нескольких своих произведениях он подвергает различного рода сомнениям. В одном из эссе, ему посвященном, Борхес пишет:
«Паскаль, как уверяют, Бога нашел. И все-таки сознание этого счастья красноречиво у него куда меньше, чем сознание своего одиночества. Вот где ему нет равных,– достаточно напомнить знаменитый фрагмент 207 по изданию Бруншвига («Сколько царств о нас и не ведает!») и другой, за ним следующий, где Паскаль говорит о «бесконечной протяженности пространств, мне неведомых и не ведающих обо мне». Емкое слово «царства» и завершающий презрительный глагол производят ощущение почти физическое; однажды мне пришло в голову, не восходит ли это восклицание к Библии. Помню, что перерыл Писание, но не нашел места, которое искал и которого, скорей всего, не было, но нашел полную ему противоположность с устрашающими словами о человеке, чувствующим себя до мозга костей нагим под бдительным оком Бога. Апостол говорит (1 Кор 13:12): «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан».
Еще один пример – из фрагмента 72. Во втором абзаце Паскаль утверждает, что природа (пространство) это «бесконечная сфера, центр которой везде, окружность – нигде». Эту сферу Паскаль мог найти у Рабле (III, 13), который приписывает ее Гермесу Трисмегисту, или в полном символов «Roman de la Rose»119, куда она попала, видимо, от Платона. Это несущественно; важно, что метафора, использованная Паскалем для обозначения пространства, употреблялась его предшественниками (и сэром Томасом Брауном в его «Religio Medici»120 для обозначения божества121. Паскаля поражает величие не Творца, а Творения.
Когда Паскаль находит бессмертные слова для разлада и нищеты («On mourra seul»122), он – одна из самых волнующих фигур европейской истории; когда вносит в апологетику математическое исчисление вероятностей, он – одна из самых ее бессодержательных и легкомысленных фигур. Он – не мистик; он – из тех разоблаченных Сведенборгом христиан, которые считают рай наградой, а преисподнюю – наказанием и, привыкнув к меланхолическим размышлениям, не умеют разговаривать с ангелами. Им не так важен Бог, как опровержение его врагов.
Демокрит полагал, что в бесконечности повторяются те же миры, где те же люди неукоснительно повторяют те же судьбы. Паскаль (на которого могли, кроме прочего, повлиять слова Анаксагора о том, что любая вещь заключает в себе весь мир) включил в каждый из этих миров множество ему иодобных: теперь любой атом пространства содержал в себе вселенную, а любая вселенная представляла собой атом. Логично предположить (хоть об этом и не сказано), что Паскаль увидел, как до бесконечности умножается в этих мирах».
За счет, собственно, таких уводов от существа веры, исповедуемой Паскалем, и в первом, и во втором рассказе ставиться под сомнение само его христианство. Да, пожалуй, и состоятельность христианства вообще – и как мировоззрения, и как средства укрепления духа; уж тем более - по части искренности и возможности постижения ортодоксально верующим истины в полноте, - скорее уж как повод для рефлексии по поводу его в этом плане несовершенства. Странный рассказ «Евангелие от Марка», который должен внушить читателю мысль о том, что далеко не во всех случаях знакомство с Евангелием, тем более следования Ему полезно – еще одно тому подтверждение. Преобладанием чисто человеческих (и весьма пристрастных) версификаций по поводу Евангелия отмечен и рассказ «Три версии предательства Иуды». Еретический взгляд на заявленную тему Борхес препоручает высказать некоему Нильсу Рунебергу, несуществующему университетскому профессору, чью религиозность он специально подчеркивает, оговаривая, правда, его возможное место в длинном ряду гностических ересиархов. Далее, по обыкновение Борхеса, приводятся названия нескольких его, естественно, придуманных самим Борхесом книг. «Читателям этой статьи следует помнить, - лукаво предваряет последующее изложение их содержания Борхес, - что в ней приведены лишь выводы Рунеберга, но нет его диалектических рассуждений и его доказательств. Кое-кто, пожалуй, заметит, что вывод тут, несомненно, предшествовал "доказательствам". Но кто же стал бы искать доказательств тому, во что сам не верит и в проповеди чего не заинтересован?
Первое издание "Kristus och Judas" было снабжено категорическим эпиграфом, смысл которого в последующие годы будет чудовищно расширен сами Нильсом Рунебергом: "Не одно дело, но все дела, приписываемые традицией Иуде Искариоту, это ложь" (Де Куинси, 1857). Имея тут предшественником одного немца, Де Куинси пришел к заключению, что Иуда предал Иисуса Христа, дабы вынудить его объявить о своей божественности и разжечь народное восстание против гнета Рима; Рунеберг же предлагает оправдание Иуды метафизического свойства».
Далее следует краткий пересказ несуществующих книг.
Не буду пересказывать довольно хитроумные, запутывающие читателя массой извращенных ссылок на текст Евангелие, лукавые, другими словами – демонские, а потому мало интересные для православного человека толкования. Приведу лишь главную мысль, выраженную в весьма кощунственных, приводящих в содрогание словах, которые вряд ли придут на ум верующему человеку (прошу прощения у таковых за то, что их здесь выписываю): «Бог стал человеком полностью, но стал человеком вплоть до его низости, человеком вплоть до мерзости и бездны; он избрал самую презренную судьбу: он стал Иудой».
Приведу также и гораздо более поучительный финал, описывающий последствия, к которым привели нового толкователя Евангелие его измышления:
«Неверующие априори сочли его нелепой и вымученной богословской игрой; богословы отнеслись с пренебрежением. В этом экуменическом равнодушии Рунеберг усмотрел почти чудесное подтверждение своей идеи. Бог повелел быть равнодушию; Бог не желал, чтобы на земле стала известна Его ужасающая тайна. Рунеберг понял, что еще не пришел час. Он почувствовал, что на его голову обрушиваются все древние проклятия Господни; он вспомнил Илью и Моисея, которые на горе закрыли себе лица, чтобы не видеть Бога; Исайю, павшего ниц, когда его глаза узрели Того, чьей славой полнится земля; Саула, глаза которого ослепли на пути в Дамаск; раввина Симона Бен-Аззаи, который узрел Рай и умер; знаменитого колдуна Джованни из Витербо, который обезумел, когда ему удалось узреть Троицу; мидрашим, которые презирают нечестивцев, произносящих Шем-Гамфораш, Тайное Имя Бога. А не стал ли он повинен в этом преступлении? Не была ли его мысль кощунством против Духа, хулою, которой не будет прощения? (Матфей, 12, 31). Валерий Соран умер из-за того, что разгласил тайное имя Рима; какая же бесконечная кара будет назначена ему за то, что он открыл и разгласил грозное имя Бога? Пьяный от бессонницы и умопомрачительных рассуждений, Нильс Рунеберг бродил по улицам Мальме, громко умоляя, чтобы ему была дарована милость разделить со Спасителем мучения в Аду. Он скончался от разрыва аневризмы первого марта 1912 года. Ересиологи, вероятно, будут о нем вспоминать; образ Сына, который, казалось, был исчерпан, он обогатил новыми чертами - зла и злосчастия».
Объективности ради заметим, что с точки зрения Борхеса - неутомимого толкователя сакральных текстов, которые, как правило, в этих толкованиях не нуждаются, помимо христианства, в той же мере несовершенны и другие религиозные учения. Но то другие; а вот как столь много знающий и могущий постичь самые тонкие нюансы христианства, знаток богословских трудов эпохи расцвета православия человек мог остаться равнодушным к его правде и красоте - непонятно. Видимо, и образованность, и глубокий ум и вправду зачастую с ними не сочетаются, о чем, впрочем, есть и в Евангелии, и у тех же святых отцов.
Я неоднократно спрашивал у почитателей Борхеса, захотел бы кто из них жить в мире (или в мирах), опекаемом его интеллектуальными богами, или даже одним Богом, даже если бы Он и вправду существовал в устраиваемом, казалось бы, всех ныне виде птицы Симург. Отвечают обычно уклончиво и обтекаемо. Но если бы спросили бы о том же меня (почему-то не спрашивают), то я бы без колебаний ответил: нет, не хотел бы.