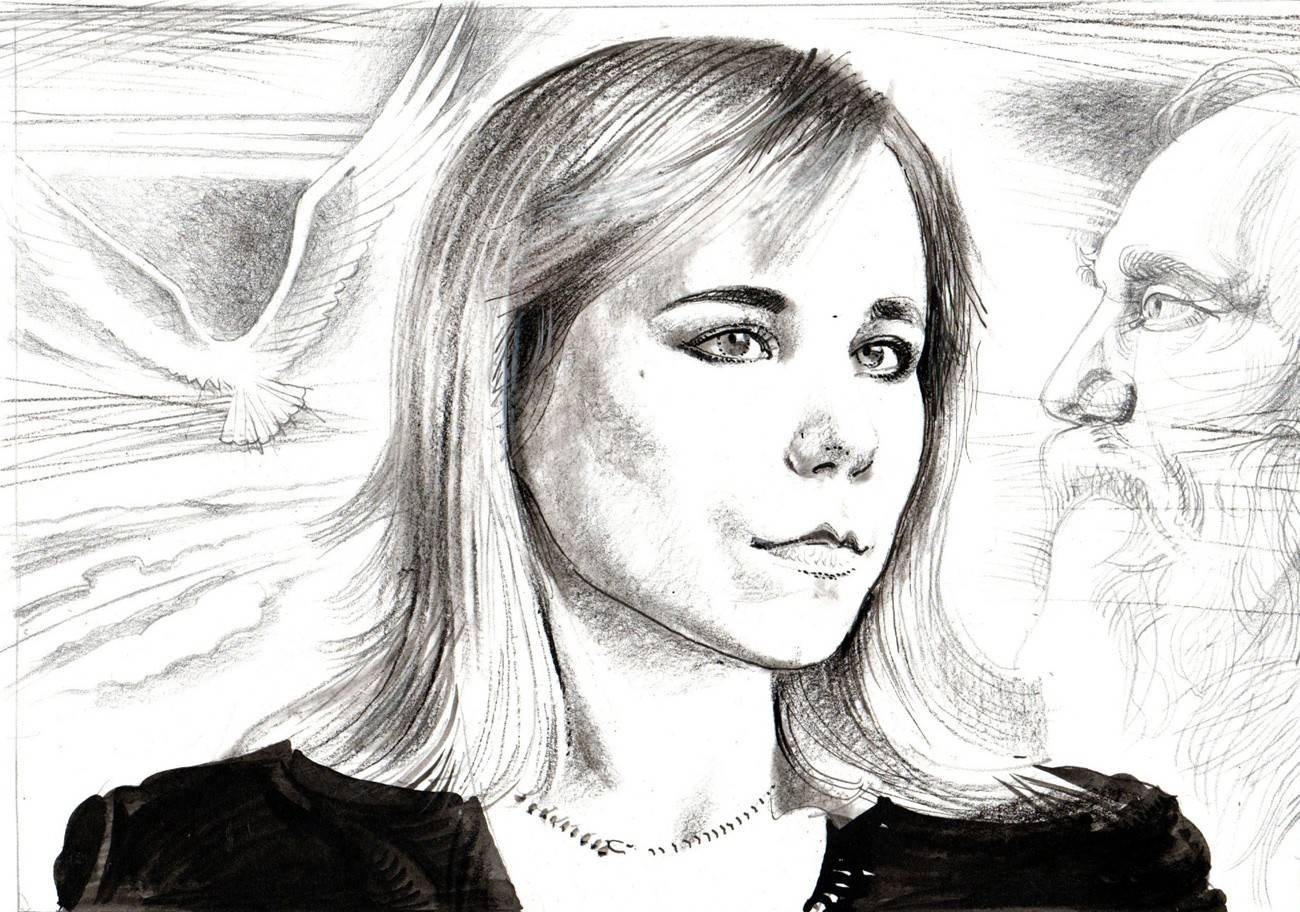Еще в XVIII веке поэты не очень заботились о публике и популярности — у каждого поэта был свой круг читателей. Равным образом их не очень заботила "широта кругозора" и научное мировоззрение. Достаточно было знать греческий и латынь, античную классику, риторику и поэтику. Религия и мифология давали достаточно сюжетов для толкований и комментариев. Потом хлынуло человечество со своими бесчисленными подробностями и аксессуарами.
Если мир создан, говоря метафизически, "сверху вниз", от недвижного центра к подвижной периферии, создан из "ничто", его нечего познавать. "Ничто" — просто граница, нейтральная полоса, за которой раскинулся хаос, доступный любой трактовке: он умный и глупый, структурный и текучий, постоянный и случайный, духовный и материальный. До восемнадцатого века "познавать" означало "определять", уточнять место человека в иерархии сотворенного. "Сверху вниз" идет созидающий божественный свет и постепенно рассеивается в ночи и хаосе. "Сверху вниз" идет "сперматический логос", рождая интеллект, душу и тело. Концепция ясная и четкая.
В XVIII веке решительно победил проект "вавилонской башни". Вселенная строится из крохотных кирпичиков — молекул и атомов. Как и почему — непонятно. Уточнение места человека в божественной иерархии сменилось вопросительным знаком — сигнатурой сатаны, пришельца из-за границы "ничто". Этот вечно прожорливый сын хаоса питается ответами. Сытый, он отдыхает, потом принимается за дело с новой энергией. Его культ требует неустанного, бесконечного поклонения.
Разрушительное начало хаоса в образе ослицы следует за Окносом в античном Аиде. Окнос бредет по берегу болота, сплетая грубый канат из тростника, — ослица расплетает его зубами.
Вместе с активизацией человеческой деятельности растет сознание бессмысленности оной. В неудержимом центробежном стремлении человек преодолел "ни шагу далее" римского бога Термина. Почему нельзя преодолевать эту границу?
В данном случае под "человеком" имеется в виду участник общего рационального плана, который называется прогрессом, эволюцией, поступательным движением и прочее. Валерий Брюсов воспел такого участника:
Молодой моряк вселенной,
Мира древний дровосек.
Неуклонный, неизменный,
Будь прославлен, Человек!
До известной степени, в силу общего пространства и времени, каждый из нас — участник такого плана. Но душа остается индивидуальной, ее задача — выбор своего пути независимо от общего маршрута. И этому ее учит искусство поэзии, каждое стихотворение должно быть самостоятельным усилием души. Немецкий поэт XVII века Гофман фон Гофмансвальдау писал: "Душа, учись смотреть выше горизонтов этого мира!" Мы рождаемся одинокими и умираем одинокими, у нас нет оснований некритически усваивать мировоззрение окружающего коллектива, жить заимствованной жизнью, растворяться в кислотной среде какого-либо авторитета, принимать предложенные максимы, пусть даже предлагателя зовут Платоном или Ницше. "Жизнь самого близкого человека для нас — не более чем мимолетное облачко", — сказал Ортега-и-Гассет. Если нас трогает подобное выражение и вызывает молчаливые комментарии, рожденные воспоминаниями и ассоциациями радикального одиночества, — значит, мы слышим и чувствуем интуиции нашей души. Это необходимо для воспитания и сохранения от пагубного влияния чужих мнений — личных или групповых — чужих идеологий, чужих занятий. Нельзя смешиваться с внешним миром. Между ним и нами, как между ним и хаосом, должна пролегать полоса ничто, дистанция, нейтральная зона.
Слово "должен" весьма подозрительно нашей душе, которая, в сущности, никому ничего не должна, вернее говоря, сама выбирает свои долги. Хорошо рассуждать о "нейтральной зоне" между нами и миром, но есть моменты, когда держать такую зону чрезвычайно трудно. Душа, как правило, амбивалентна, и любовь, или точнее, поиск нашего двойника, зачастую приводит к мучительным страданиям. Мы способны много лет искать во внешнем мире "родственную душу", пока не убедимся в лихорадке терзаний: наша муза, идеал, идея, герой пребывают где-то…там, за гранью чувственного постижения, в пространствах фанетии или фантазии. (Имеются в виду понятия орфической теологии, атмосфера, необходимая для проявления и деятельности первичных богов — Фанеса и Эроса). Это поиск наудачу, в полном неведении и полной неопределенности, где "я" и "ты" меняются местами, совпадают, пропадают. Этот поиск, несомненно, увлекал Валерия Брюсова:
Близь медлительного Нила, там, где озеро Мерида,
в царстве пламенного Ра.
Ты давно меня любила, как Озириса Изида,
друг, царица и сестра.
В его поэзии сразу поражает "аполлонизм": даже в сверхдалеком прошлом контуры ясны и рельефны, никаких теней и размытых пятен. Здесь трудно говорить о "поиске наудачу". Последнее чуждо автору, который всегда ощущал в себе нечто триумфальное, нечто от вождя, лидера. Не его вина, что он жил в эпоху эмоциональной скудости и банальности. Смерть — удел рабов и вообще людей низменных, он, поэт, был в Египте, по меньшей мере, фараоном:
Разве ты в сиянье бала, легкий стан склонив мне в руки,
через завесу времен
Не расслышала кимвала, не постигла гимнов звуки
и толпы ответный стон?…
Категоричность высказывания пренебрегает проблематичностью "вечного возвращения". Смерть великих — не более чем "долгий сон", задача толпы — ловить молнии великих, вторить победному гимну, толпа — фанетия, фантазия, фон. В этом нет ничего уничижительного, это музыкальная или живописная техника: соло нуждается в хоре, молния ищет ночи. Еще вопрос кто главнее, кто кого порождает: солнце небо или небо солнце.
Но задача лидера не из легких — ему необходимо учитывать мельчайшие особенности фона. В поэзии — это безупречное владение стихом. Надо, чтобы стих свободно открывал глаза и уши и сразу овладевал вниманием, надо, чтобы стих был… повелителен. Ассирийский царь Ассаргадон говорит непринужденно и высокоутверждающе:
Едва я принял власть, на нас восстал Сидон,
Сидон я ниспроверг и камни бросил в море!
Виртуозное владение формой сонета, вольное дыхание строки. Это не дается кропотливым перебором гласных и согласных, хотя Валерий Брюсов-учитель очень поощрял подобное занятие, здесь надо унисонно соединяться с собственными строками:
Кто превзойдет меня? Кто будет равен мне?!
Деянья всех людей, как тень в безумном сне,
Мечта о подвигах, как детская забава…
Разговоры о почитании бога Термина, о non plus ultra не для Валерия Брюсова, ничто и хаос не препятствие для него. Пусть коварная ночь проницает своим колким взглядом, он способен повторить слова Ницше: "Вперед, мое сердце, и не спрашивай, почему!" Он любил толпу любовью лидера, как фон, в широком смысле, для активности лидера:
Прекрасен, в мощи грозной власти,
Восточный царь Ассаргадон,
И океан народной страсти,
В щепы дробящий утлый трон!
Народ, толпа, масса, человеческие конгломераты — все это дышит бешеной, непреодолимой энергией. Умный капитан, умный король понимают: когда хор становится соло, возмущаться нечего — сила хора превосходит умение лидера. Толпа, хор, вулкан, рев урагана — титанические стихии, перед ними можно только преклоняться. Но всегда был у Валерия Брюсова враг, с которым бороться нельзя: обыватель, умеренный, сторонник конституционной монархии, "довольный":
Довольство ваше — радость стада,
Нашедшего клочок травы.
Быть сытым — больше вам не надо,
Есть жвачка — и довольны вы!
Это истинная чума, пришедшая с XIX веком. И самое главное, поэт чувствовал, что чума коснулась и его:
На этих всех, довольных малым,
Вы, дети пламенного дня,
Восстаньте смерчем, смертным шквалом,
Крушите жизнь — и с ней меня!
Почему? Потому что Брюсов-человек жил жизнью "довольных". Он отличался дисциплинированностью, работоспособностью, ответственностью, чувством долга, — словом, буржуазными добродетелями, растворяющими героизм в рутине. Но разве он виноват? Если да, то только в том, что ему не хватило смелости и безумия дон Кихота. Разве в буржуазную эпоху возможна поэзия? Разве среди кафе-шантанов и канканов возможны сакральные танцы — пэан и пиррихий? Более чем за полвека до него Гёльдерлин на собственный вопрос: "Зачем поэты в ничтожное время?" ответил: "Они, как жрецы Диониса, блуждают в туманной ночи."
Валерий Брюсов только предчувствовал, только боялся, а мы теперь знаем точно: жизнь кончилась, наступила эра фальсификации, бессмысленного становления.
Мы теперь улыбаемся провинциальности панорамы, читая начало его поэмы "Конь Блед":
Мчались омнибусы, кебы и автомобили,
Был неисчерпаем яростный людской поток.
Самое начало двадцатого века, рождение большого города в современном смысле. Устрашающее видение, всадник апокалипсиса на минуту произвел эффект, затем люди устремились дальше, продолжая бесконечное кружение по улицам:
Только женщина, пришедшая сюда для сбыта
Красоты своей, — в восторге бросилась к коню…
…Да еще безумный, убежавший из больницы,
Выскочил, растерзанный, пронзительно крича…
В те времена еще бился живой импульс, пусть в блуднице и безумце. Современная толпа "довольных" мертвецов, взбудораженная спровоцированной жизнью, однозначно решила бы: это шоу! и ожидала репортеров, кинооператоров, телевизионщиков. Потом в газетах появилось бы: "Всадник апокалипсиса одобряет шампунь "Золотой век" или что-нибудь в этом роде.
Бытие "довольных" отличается всеобщей транзитностью, вечным становлением чего-то во что-то. Субстантивы утратили стойкость и постоянство. Лампочки зажигаются, когда проходит электричество, "довольный" вздрагивает при движении слов "свобода", "деньги", "интеллект", "государственность", "секс"… и разных прочих существительных. Что такое транзитный субстантив? Когда кого-то громко называют по фамилии, он кричит "я" и тут же забывает, далее равнодушно слушает другую фамилию и другое "я". Так по коллективу скользит блуждающее "я". "Каждый — другой, никто — он сам", — сказал Хайдеггер. Можно ли обозначить застывшего человека "живым", если его подвижная идентификация всегда определяется внешним стимулом? Сомнительно. Всё это, возможно, облегчит нам загадку знаменитых "Грядущих гуннов".
Поэт-провидец, веря в историю и ее циклический ход, наблюдая старение и бессилие европейской цивилизации, призывает варваров:
Где вы, грядущие гунны,
Что тучей нависли над миром!
Слышу ваш топот чугунный
По еще не открытым Памирам.
Варвары — гиксосы, гунны, санкюлоты и прочие "дети пламенного дня" ураганом, лавиной, стихией обрушились на…сферу своего достижения, чтобы
Оживить одряхлевшее тело
Волной пылающей крови.
Это сказано в отличных стихах, в отрывистом, торжественном, уверенном дактиле. В остальном — традиционный взгляд европейских историков. Но откуда нам знать, были ли римляне стары, а гунны молоды, и можно ли неотесанность, безграмотность, алчность принимать за молодость? Низшие категории всегда имеют преимущество над высшими — это аксиома. Преимущество в грубой силе, потому что грубости свойственна фанатическая сосредоточенность, а утонченности — широта интересов или распыленность точек зрения.
Бесследно всё сгибнет, быть может,
Что ведомо было одним нам,
Но вас, кто меня уничтожит,
Встречаю приветственным гимном.
Нечто подобное мы прочли в стихотворении "Довольным". Приветствовать собственную гибель даже под ногами хищной орды, опьяненной оголтелым и жадным величием, удовольствие сомнительное, а здесь?
Героическому мировоззрению Валерия Брюсова необходимы оппозиции: доблесть и трусость, солнце и тьма, богатство и бедность. Поэт ненавидит золотую середину, золотую умеренность, "ни то, ни сё", проще говоря. Эпитет "золотой" превратился в собственную пародию. Выражение "золотая середина" употребил отец Робинзона Крузо, наставляя многообещающего сынка в "умении жить", это максима буржуазной эпохи, это комфорт, "ни то, ни сё" между богатством и бедностью. Когда поэт, ожидая грядущих гуннов, вещает:
А мы, мудрецы и поэты,
Хранители тайны и веры,
Унесем зажженные светы
В катакомбы, в пустыни, в пещеры…
…его резонно спросят: как же вы там проживете, в голоде, холоде да разных неудобствах? Резонно, ибо комфорт разлагает и тело, и душу. Каждый новый объект комфорта, о котором день назад еще не подозревали, моментально становится насущным. Если бы в свое время вместо свободы, равенства и братства обещали горячую воду, электричество и телефон, возможно, не было бы террора и прочих ужасов. Качество жизни — бриллиантовое ожерелье либо лохмотья — сменилось количеством, пролонгацией длительности, клочком травы да жвачкой.
В пушкинской "Капитанской дочке" Пугачев рассказывает Петруше Гриневу примечательную сказку: орел, привыкший напиваться живой кровью, живет всего тридцать лет, а ворон, предпочитающий падаль, — триста. По Валерию Брюсову, прав орел, вождь, лидер, романтик… ворон — "довольный". Но любое племя примитивов знает: ради долгожительства надо питаться тухлой рыбой, гнилым мясом, прелыми листьями. Кто преклоняется перед смертью, должен постоянно приобщаться к ней, умолять о милости. К тому же подобная еда утишает жажду жизни: глаза и уши довольствуются скудным пейзажем и монотонным шумом, голод впечатлений — суррогатами "виртуальной" реальности. Так фактически живые превращаются в номинально живых, чему способствуют прогресс, комфорт, электричество. Современный коллектив торжественно провозглашает:
"Мы славим, Прах, Твое Величество,
Тебе ведем мы хоровод,
Вкруг алтарей из электричества,
Вонзивших копья в небосвод!"
Так кто был Валерий Брюсов? Вождь русского символизма, лидер единоверцев? Нет, аниматор или, выражаясь языком Г.Ф.Лавкрафта, реаниматор. Напрасно он старался оживить древнее, ныне обреченное искусство поэзии "волной пылающей крови". Его "довольные" , номинально живые, и оказались "грядущими гуннами". Он стал авторитетом, создал поэтическую школу — бесспорно. Его школа постепенно ушла в тень — бесспорно. Но школа в поэзии — понятие также номинальное, существующее ради статистики и школьных учебников. "Поэзия делается всеми, не одним", — справедливо сказал Исидор Дюкасс (Лотреамон). Но когда для поэзии присутствует атмосфера, напоминающая "фанетию" древних. Души, одержимые поэзией, обрушивают лавины, привлекают звезды, будоражат приливы, вздымают толпы, устраивают крестовый поход детей. Они не выпрашивают у смерти пощады, но гибнут на гильотине, как Андре Шенье, или умирают за свободу Греции, как Байрон. Они высекают из вербальной материи огонь, необходимый для жизни души, а не заботятся о технике стиха, дабы доставить транзитное удовольствие нескольким скучающим эстетам. Валерий Брюсов, как любой поэт переходного периода, вернее, конца поэзии, и верил и не верил в богов. Зато на человеческое знание полагался безусловно и максимально старался оное изучить. Поскольку сомнение в божественном бытии входит в это самое знание, Валерий Брюсов пытался его опоэтизировать:
Она в густой траве запряталась ничком,
Еще полна любви, уже полна стыдом.
Ей слышен трубный звук — то император пленный
Выносит варварам регалии Равенны…
Стихотворение называется "Диана" и завершается так: "Богиня умерла. Нет более Дианы". Стихотворению предписан мрачный эпиграф: "Умер великий Пан".
И всё же. Поэзия — язык богов, а не ремесло. Даже если вокруг твердят, что боги умерли, это не имеет никакого отношения к поэту.