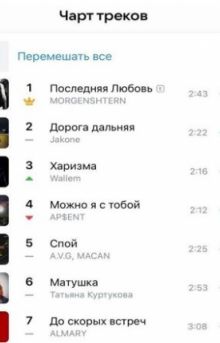Со дня кончины Всеволода Крестовского, русского писателя, публициста, большого патриота своего Отечества минуло 125 лет, однако многие его произведения остаются до сих пор актуальными. Более всего это касается самого последнего из написанного им - трилогии, известной под названием «Жид идёт», составными частями которой являются романы «Тьма Египетская», «Тамара Бендавид» и «Торжество Ваала» (последний не окончен). Эпиграфом к ней могло б стать написанное пятьюдесятью годами позже четверостишие официозной советской поэтессы Маргариты Алигер:
Мы слишком много плачем, много стонем,
Но наш народ, огонь прошедший, чист.
Недаром слово жид всегда синоним
С святым высоким словом коммунист, -
только с перефразированными последними двумя строками: хотя и слово жид всегда синоним с презренным, мерзким словом аферист (или интернационалист, что гораздо больше соответствует концепции Крестовского, но, к сожалению, не укладывается в размер).
В чем же заключается эта концепция?
Опережая подробный анализ, сразу же скажу, что под пресловутым жидом Крестовский отнюдь не подразумевает весь еврейский народ. Уже само название, что и говорить, весьма вызывающее, провоцирует на разжигание известного рода страстей – причем в среде как семитов, так и антисемитов. Что, собственно, происходило уже ко времени первого издания трилогии, вышедшей в свет не без труда и затем, кажется, ни разу не переиздававшейся. Такое положение сохраняется, - в силу причин, на которых, как мне кажется, нет надобности сосредоточиваться ввиду их очевидности, - и по сей день.
Однако, читая текст внимательно и бесстрастно, можно увидеть, что отнюдь не только еврей является предметов неприязни автора, - скорее, меркантильный, ничего, кроме наживы не видящий человек, какой бы нации он не принадлежал, погруженный в разгул торжествующей пошлости. То, что этими свойствами в романе и вправду главным образом наделены евреи, объяснимо тем простым фактом, что Крестовский задался целью выявлению пороков именно этой среды. Но ведь не только евреи, но и верхушка русской аристократии, но и представители консистории, но и в изобилии населяющие роман второстепенные и третьестепенные персонажи разных национальностей – украинцы, грузины, греки, румыны, сербы, болгары, поляки и пр., представляющие к тому же разные сословные группы страдают теми же пороками, что и они.
Еще и поэтому я хотел бы сразу предложить разграничить два термина: еврей, который безоговорочно можно применять к людям придерживающимся иудейской веры (а таких в романе, густо заселенном евреями, немного), и жид - термин, который не будет нести в меня почти никакого национального окраса, за исключением тех случаев, когда я, подобно Крестовскому, буду применять его в отношении евреев в том филологическом контексте, в котором он применялся в русской литературе ХIХ века, да и в русском быту тоже.
Дело ведь еще и в том, думается, что уже где-то ко времени вавилонского плена даже в среде иудеев, в результате смешивания их с языческими народами путем сладострастных браков, едва ли можно было найти чистого еврея, к тому же ни разу не изменявшему Единобожию, ибо многочисленные эпизоды Ветхого Завета свидетельствуют как раз об обратном. Что уж говорить о времени Крестовского, а тем более нашем, когда чистых и верных библейскому Богу иудеев остались вообще единицы (как, впрочем, наверное, и христиан, верных Спасителю). Дед Тамары, по причине и чистоты аристократической крови, не подвергавшейся, очевидно, смешиванию, и по причине естественного нравственного благородства, восходящего к царю Давиду, и по причине хранения древнего духа, и, в особенности, по причине не приверженности к золотому тельцу (все перечисленные качества имеют подтверждение в том или ином эпизоде романа) в изображении Крестовского как раз и представляет такое исключение. Поэтому, по причине явной чуждости, с подозрением, а то и с отвержением воспринимается сонмом остальных одноплеменников, чьи интересы – не в сфере древнего героизма и благочестия, некогда присущему их предкам, но исключительно в сфере золота, банкнот, залоговых квитанций и банковских чеков, могущим дать могущество и власть над еще более чем они, обмельчавшими представителями других наций (власть, которую они получают над оплутократившимися русскими аристократами посредством упомянутых бумаг – наглядное тому подтверждение).
Ненависть же к капиталу (не вообще, оговорюсь, к капиталу, но капиталу, приобретаемому за счет спекулятивных комбинаций и ставшего смыслом жизни) и презрения к его обладателям у Крестовского отмечена поистине ни с чем не сопоставимым чувством: такого размаха гадливости и презрения к людям, ставшим рабами золотого тельца, мы не найдем ни у Диккенса, ни у Бальзака, ни, если говорить о русских, у очень близкого по этой теме Крестовскому Алексея Писемского, с мироощущением которого у Крестовского вообще много родственного.
Так что термин жид при некоторой натяжке адекватен у Крестовского понятию человека, нечестно наживающему капиталу или одержимого всепоглощающей страстью к нему. И даже не при натяжке, если учитывать те же еврейские черты у персонажей других национальностей, подверженных этому пороку. Но даже если под этим определением подразумевался узко-национальный аспект (что, повторюсь, не соответствует контексту), то нужно учитывать то, что среди еврейства, буквально переполняющих роман, есть и абсолютно не сребролюбивые люди. Пускай и немного, но есть; и приблизительно такое же соотношение дает Крестовский при изображении русской среды.
Прочтем, как выражает свою задачу, поставленную им при написании трилогии, сам Крестовский.
«Мысль моя, коли хотите, может быть выражена двумя словами: « ЖИД ИДЕТ!» Понятно ли?.. Куда ни киньте взгляд, повсюду вы видите, как все и вся постепенно наполняется наплывом жидовства. И это не у нас только – это и в Европе, и даже в Америке, которая тоже начинает кряхтеть от жидовства, это явление общее для «цивилизованного» мира индоевропейской расы, обуслословленное одряблением ее; так, например, идея христианской религии заменяется более удобной идеей «цивилизации», вместо христианской любви мы воспеваем гуманность и т.д. Жид – космополит по преимуществу и для него нет больных вопросов, вроде национальной и государственной чести, достоинства, патриотизма и пр., которые существуют для русского, немца, англичанина, француза».
Обратим внимание, что понятие жидовства Крестовский отожествляет с идеей цивилизации со всеми прилагающимися к ней приложениями. Но даже он не мог предположить, как далеко зайдет этот процесс. Так, как зашел он уже в наши дни, когда понятия чести, патриотизма и достоинства благополучно избавились все европейские народы. Да и в России они оттеснены куда-то на обочину.
Можно, во всяком случае, сказать со всей очевидностью: дело не в тех или иных национальных симпатиях или антипатиях автора к тому или иному народу, а в его концепции, в его отношении к веяниям времени, пошлость которого выявляет крайне скептический авторский взгляд. Для подтверждения стоит оценить концептуально выверенное соотношение положительных и отрицательных персонажей в еврейской, русской, малороссийской, а далее в болгарской, сербской, румынской и т.п. среде (отметим, кстати, что среди представителей всех этих национальностей, включая еврейскую, религиозность воспринимается как чистая формальность). В первом, например, романе трилогии – «Тьма Египетская», положительными, помимо Тамары Бендавид, могут быть названы всего лишь два персонажа: это русская игуменья, помогающая Тамаре в непростом деле принятия православия и держащийся старых иудейских традиций (едва ли не времени Моисея и Аарона) дед Тамары Соломон, достойный потомок царя Давида. Все остальные – это градирующие в авторских глазах от злой иронии до острого сарказма свора корыстолюбивых проходимцев. Главное, опять повторюсь во избежание недоразумений, дело вовсе не в национальной принадлежности, а в одержимости золотым тельцом, имеющей вид некой зоологической и определяющей жизнь страсти. Если бы такой одержимостью отличались другие народы, например, русский, то можно быть уверенным, что Крестовский заклеймил бы и этот народ (не национальные свойства, но именно эту низкую страсть). Не вина же, в конце концов, Крестовского в том, что ненавистную для него власть золота в сдвинувшемся с правильной оси мире олицетворяют в наибольшей степени представители именно еврейской нации, а другие нации в этом им уступают (по Крестовскому, впрочем, весьма незначительно, поэтому и выглядят прихвостнями тех, кто в этом деле преуспел гораздо больше их). Эта неоднозначность авторского подхода помешала печатанию романа в журнале Каткова – последний воспринял его, как ни парадоксально это звучит, не как антиеврейский, а как антирусский.
«По его словам, - пишет Крестовскому по поручению Каткова один из его сотрудников, - у тебя выводится крещеная еврейка, которая, переходя из высших слоев общества в самые низменные, нигде не находит христианства в истинном смысле; так что выходит, что ей незачем было и креститься; а между тем еврейство оказывается на крепких устоях и все забирает силу. … Дело в том, что массы и, в особенности, интеллигенция едва ли когда особенно выделялись над уровнем пассивного соблюдения христианства. Усилия просветительской деятельности представителей церкви и светских гуманистов заключались всегда в том, чтобы направлять в сторону пробуждения массы из их летаргии в этом отношении. Если же мы, вместо колеблющихся, особенно в наше время, представим им картину такого отчаянно безвыходного положения, то не будет ли это последним и может быть самым энергическим толчком в направлении наклонной плоскости?»
Катков, мыслящий категориями своего времени, был, конечно, прав; но еще более был прав прозревающий будущее Крестовский, фиксируя в своем романе какой-то вывороченный наизнанку мир с первыми, но уже довольно мощными симптомами этого будущего, где власть будет принадлежать не тому, кто благороден, смел, отважен, честен, но тому, у кого, вне зависимости от его моральных качеств будет больше наличного или даже вполне виртуального, банковского капитала; будущее, когда в Европе и в России исчезнет вера в Единого Бога, где будет царствовать нравственная индифферентность, не отличающая добра от зла; где, наконец, сменятся поло-ролевые функции мужчины и женщины – а это тоже отражено в романе Крестовского (еврейка у него принимает православие и становится убежденнейшей русской патриоткой, причем патриоткой -монархисткой; русский же дворянин, в погоне за наживой теряющий приметы и нравственные, и национальные, и сословные, став, по меткому выражению одного из его еврейских покровителей, ни на что не годным пролетарием, попав в еврейскую кабалу, обречен на вечную роль жидовского прихвостня). И еще один, дополнительный поворот этой же темы: оба названных персонажа причастны к русско-турецкой войне на Балканах конца 70-х годов Х1Х века. Но она, крещенная еврейка, находиться на передовой, в самой гуще боев, вынося оттуда раненных русских; он же, русский аристократ, постоянно крутится в тылу, совместно с еврейскими барышниками осуществляя отвратительные торговые спекуляции, наносящие ущерб русской казне и русской армии.
Из всех остальных тем этого в высшей степени идеологического романа я хотел бы хотя бы краем коснутся следующих: темы геополитической; темы патриотической; и, наконец, мотива, собственно, говоря, наиважнейшего, выраженного, правда, довольно парадоксально: обращения главной героини в православие и ее внутреннее возрастание в нем, невзирая на естественно подстерегающие ее там и известные нам всем искушения, а также деградация ее возлюбленного, в силу своих характеристических особенностей взявшего курс на жидовский образ жизни. Две последние тесно переплетаются между собою и одновременно служат завязкой всему сюжету.
Жизнеописание Кержоля (так зовут главного мужского персонажа) занимает в романе больше места, чем какой-либо другой, больше даже, чем Тамары. Думается, объем, который отводится этому довольно таки жалкому субъекту, должен, по замыслу Крестовского, выразить главную мысль об ожидовление русского человека, аристократа. Впрочем, ожидовленным он предстает перед нами уже с первых страниц трилогии: какого полета эта аристократическая птица читатель мог судить еще из самого первого эпизода – свидания с Тамарой, отмеченном уговорами к бегству с целью заполучения ее миллионного приданного (с этой же целью затевается обращение ее в православие, так как брак с иудейкой человеку православного исповедания, к которому формально принадлежит Кержоль, запрещен канонами). Что же касается Тамары, то только затененность любовью мешает ей увидеть в избраннике то, что с первого его появления, во время свидания с Тамарой, видим мы.
Показательно это свидание и еще в одном смысле, ибо уже во время его со всей очевидностью выявляется христианский образ мышления иудейки Тамары и, в той же степени, чисто жидовское мышление ее избранника, формально принадлежащего к православию. Он слишком длинен, поэтому я постараюсь как можно точнее пересказать его своими словами. Кержоль: я и сам мог бы принять иудейство, мне все равно, кем быть: христианином или иудеем. Я бы, не задумываясь, предпочел бы даже последнее, если бы тогда по законам российской империи не потерял бы все права и принадлежащие мне теперь привилегии. А ты в этом смысле свободна. Тамара: Положим, денег я не теряю. Но ведь я же теряю больше, чем деньги или права: меня проклянут родственники. Кержоль: подумаешь, родственники проклянут! Зато у тебя есть собственный капитал, и, проклянут ли тебя, или не проклянут, он все равно останется при тебе.
И далее алчность к деньгам у этого «героя» снова и снова будет брать верх и над дворянской гордостью, и над честью, да и над простою порядочностью. Не случайно автор изначально придает ему черты некой неопределенности, двусмысленной двойственности вполне в духе обозначенного космополитизма: вроде бы русский, но при том носящий иноземную фамилию; вроде бы православный, но готовый в любой момент переменить веру; вроде бы дворянин, однако начисто лишенный долженствующих быть присущих этому сословию благородства. Словом, беспринципный и безнравственный подлец, имеющий повадки жида в самом худшем его варианте, для которого единственная жизненная ценность и смысл – деньги, капитал, мамона.
На малейший намек, касающийся быстрого обогащения за чужой счет, граф, что особо отмечено Крестовским, обладает чутьем и повадками поистине жидовскими, близкими к животным, что особенно наглядно вот в таком коротеньком диалоге:
«- Это пустое делу: "пенендзе" от графиню вы никак не получите, -- продолжал со своею спокойной уверенностью Блудштейн. -- А когда вам так нужно, то можно добыть гораздо простейш... Заработать можно, и больших деньгов, даже, очень больших! -- абы только была ваша охота!
При этих последних словах, Каржоль чутко поднял голову, как лягавый пес, почуявший дичь, и поглядел испытующим взлядом на собеседника: в шутку ли он это, или в серьезную?»
Посему - как не простираться жидовской власти над людьми, подобными Каржолю, который всю свою жизнь строит исключительно на денежных расчетах, соперничая в этом с выходцами из зон оседлости, презираемых в глубине души. Но ведь они, в свою очередь, презирают его в открытую:
«Каржоль почувствовал, что начинает как будто воскресать. Он понимал, что подобным условием жиды рассчитывают затянуть над ним еще крепче мертвую петлю, но досадно ему было лишь одно: зачем он назначил им только пять, а не десять, не пятнадцать, не двадцать тысяч! Заломил бы больше, было бы, по крайней мере, с чего спустить, и если они так легко сдались на пять, то очень может быть, что согласились бы и на большее, но увы! -- промах сделан и теперь его уже не поправишь. А впрочем, не поторговаться ли?.. Авось-либо!..
И он рискнул заявить евреям, что цифра пять тысяч сказана им только так, примерно, что, собственно говоря, прежде чем изъявить на нее свое согласие, ему следует сообразиться, достаточно ли будет такой суммы.
-- Ну, нет, извините, больше ни одной копейки! -- решительно оборвал его Блудштейн.
Ламдан же Ионафан не сказал ни слова, но зато усмехнулся прямо в глаза Каржолю такой тонкой, иронически язвительной улыбкой, которая прямо показала ему, что этот человек до глубины разгадал всю некрасивую сторону его последнего психического побуждения.
Граф моментально вспыхнул до ушей и невольно опустил глаза пред этой улыбкой. Ему стало вдруг досадно -- отчасти на самого себя, за эту неуместную и невольно выдающую его краску в лице, а главным образом, досадно чуть не до истерической злости на ламдана за то, что как "это животное" смеет улыбаться подобным образом, как оно смеет давать ему чувствовать, что понимает всю его сокровенную внутреннюю сущность! Будь его воля и власть, Каржоль охотно избил бы его теперь как собаку, но увы! опять-таки увы! -- несмотря на весь прилив такого негодования, он сознавал, однако, что, позволив себе малейшую несдержанность в этом отношении, легко может окончательно испортить свое дело и не получить ни копейки. В сущности, ему было решительно все равно, на какую бы сумму ни подписывать вексель, лишь бы заполучить в руки сколько-нибудь денег, которых, кстати, в данную минуту, у него совсем не было, и он очень хорошо понимал, что отныне, при таком враждебном отношении к нему здешних жидов, нечего уже рассчитывать на дальнейшую возможность каких бы то ни было займов и "перехваток" в Украинске».
Еще далее Каржоль без всяких воззрений совести становится винтиком в мудрено закрученной жидовской спекулятивной машине, шестеркой, если воспользоваться современной терминологией. Что его, русского аристократа с космополитической фамилией и такими же наклонностями, нимало не смущает (зато, как мы узнаем далее, весьма смущает принявшую православие еврейку Тамару).
Вот сцена вербовки Каржоля представителем некоего Товарищества, так напоминающего аналогичные товарищества наших дней, собирающегося сорвать изрядный куш на некачественных поставках русской армии, воюющей с турками и описание дальнейшей стремительной эволюции его в сторону жидовства.
«Конечно, по силе своего значения "Товарищество" нуждается в известной, бьющей в нос представительности, и ради этого пригласило к себе на службу не только евреев, но и русских, -- людей непременно с известным общественным положением и именами: у Грегера, Горвица и Когана служат по вольному найму и штатские генералы, и бывшие губернаторы, и чуть ли не сенаторы, да еще как добиваются, как кланяются, чтобы только удостоили их взять! Но "Товарищество", конечно, принимает к себе с разбором, -- не каждый легко удостоится этой чести... По мнению Абрама Иоселиовича, граф Каржоль обладает всеми подходящими данными, чтобы быть не бесполезным "представительным агентом" "Товарищества": он человек с громким именем, титулованный, образованный, светский, видный собой, вполне обладающий манерой держать себя с высоким достоинством и притом ловкий и изворотливый, так что в хороших руках, под руководством опытных дельцов, может не без успеха обделывать кое-какие дела и поручения "Товарищества".
«-- Нам такие люди нужны, -- говорил ему Блудштейн, -- затово што, знаете, докудова иногда нашего брата, обнаковенного еврея и не допустят, а то и разговарувать не захочут, -- князю, или графу, как вы, двери до габинету заувсегда открытые, -- ну, и наконец, это, знайте, люди з важными чинами и з титулами -- это хорошо позует самаво дела, самаво "Товарищества", мы это хорошо понимаем!
И вслед за сими предварительными подходами и объяснениями, Абрам Иоселиович предложил графу -- не хочет ли он поступить в агенты "Товарищества", что он, Блудштейн, легко может устроить ему это выгодное место, где граф будет получать очень хорошее содержание золотом, которое даст ему возможность жить вполне прилично, представительно и, кроме того, он будет, как агент, пользоваться известными процентами с поручаемых ему дел и операций. -- "А вы знаете што з одново этово пурценту можно будет шутем заработать себе сто, двухстов, трохстов тисячов рубли, -- затово што тут сотни маллионов циркулуют, и казна аничего не жалеет, абы армия была сытая!"
-- Н-ну, и вы не думайтю, -- счел нужным добавить еще Блудштейн, не без самодовольной похвальбы, -- вы не думайтю, што вы у нас будете первый агэнт с таким титулом, -- вы найдете себе самую благородную компанию, што у нас уже служут и князья Турусовы и князья Оголенские, и фоны, и бароны. -- и вы, таким образом, попадете в самое вийсшое общество! -- это все наши, агэнты для представительности.
Предложение было слишком ярко, слишком соблазнительно и неожиданно, чтобы Каржоль мог от него отказаться, в особенности в таком крайнем положении, какое переживалось им в настоящее время. Он с увлечением бросился горячо пожимать обе руки Блудштейна и, в порыве благодарного чувства, назвал его даже своим благодетелем и спасителем».
В результате: «граф был совершенно счастлив. Фортуна опять поворачивается к нему лицом, -- и впереди ему уже мерещатся целые груды золота и банковых билетов, его роскошная походная обстановка, венские фаэтоны на резинах, парижские дорожные нессесеры, эффектные картины боевых лагерей русских войск на Дунае, интересные знакомства и сношения с деятелями армии, высокие сферы, Яссы, Букарешт, румынские красавицы, рулетка и шампанское...
Через день Абрам Иоселиович, как сказал, так и действительно прибыл в Одессу, отыскал там в "Петербургской гостинице" графа, не преминувшего, конечно, в счет будущих благ, занять себе роскошный нумер, и, тотчас же заставив своего сиятельного protege переодеться во фрак с белым галстуком, сам повез его в щегольском фаэтоне представляться высокому еврейскому патрону. Этот последний, хотя и заставил графа изрядно-таки подождать в приемной, беседуя тем часом в затворенном кабинете с Блудштейном, но затем все же принял его весьма любезно и сказал даже несколько комплиментов, главнейшим образом, насчет того, что "ми" всегда-де рады "таким людям" и надеемся остаться взаимно довольными друг другом, потому что "ми сами живем и хочем другим давать жить и заработовать". Затем, откланявшись еврейскому магнату и спустясь вместе с Блудштейном в его "контору", граф подписал там предложенные ему условия и получил из кассы аванс, а вечером того же дня, на "Приморском бульваре", где гремела военная музыка и толклось множество международного пестрого люда, моряков и военных всех родов оружия, нарядных дам и "цивилизованных" евреев, он сидел на воздухе, у бульварного ресторана, в кругу Блудштейна и Нескольких "самых элегантных" израелитов, уже как их новый сослуживец. Любуясь безбрежною далью озаренного лунным светом спокойного моря, граф наслаждался за крюшоном шампанского мягкой, вечерней прохладой и совершенно искренно, от всего сердца уверял своих собеседников, что насколько он до сих пор заблуждался в своем предубеждении против евреев, настолько же теперь сознает, какие это все прекрасные, благородные и даже высоко патриотичные люди!»
Итак, православные русские (далее этот процесс будет показан в более расширенном объеме, на примерах других православных народов) с успехом перенимают образ мыслей жидов. Но свято место пусто не бывает, и вполне естественно, что освободившееся место занимает еврейка, принявшая православие, приобретая одновременно черты истой русской патриотки.
Более всего это новое и неожиданное для Тамары чувство сказывается во время сражения под Плевной:
«…здесь она впервые сознательно нашла в себе ответ, что это от того, стало быть, что сама она в душе сделалась русской и перестала быть еврейкой. А сделалась русской, потому, что поближе узнала русскую веру, русского Бога, русского человека, покороче сошлась, сжилась и сдружилась с русской средой и с русским солдатом в годину военных жертв и испытаний, и воочию увидела и на себе самой почувствовала, что это все далеко не то и не так, как рисует его себе еврейство, ожесточенное и высокомерное в своем презрении к гойям».
Обратим внимание на слова: «сделалась русской»; эту мысль Крестовский проводит через весь роман, так что на каком-то этапе чтения мы ловим себя на том, что воспринимаем Тамару как чисто русскую женщину.
Кстати, во время упомянутого боя, Крестовский предоставляет и минуту нравственного возвышения присутствующему здесь же в качестве наблюдателя графу Кержолю, минуту, впрочем, не нашедшую никакого дальнейшего продолжения. «Ему сделалось вдруг так больно и стыдно, - читаем в ХХ главе «Тамары Бендавид», - так обидно и гадко за самого себя, за свое положение "постороннего" здесь человека, за свою презренную роль жидовского агента, в ту самую минуту, когда столько крови и столько дорогих жизней беззаветно приносится в жертву высокого долга сынами того народа, к которому и он считается принадлежащим. Зачем он не с ними, не там, где они надрываются из последних сил, чтобы вырвать у противника победу, и бесповоротно умирают! А он, что он такое? Что привело его сюда? Какие "высокие" интересы? Защита плутов и казнокрадов, отстаивание гнусных гешефтов всех этих жидов, которых он сам презирает... Презирает и, однако, служит им, служит как раб, -- нет, хуже, как лакей, за милостивые подачки! Не в тысячу ли раз лучше теперь же, сейчас вот, сию минуту кончить со всей этой гадостью, со всем своим позором и унижением, кончить все разом и навсегда? Стоит лишь броситься туда, в самый кипень боя, и честной смертью искупить всю свою бесполезную, жалкую и дрянно мелочную жизнь... На что она ему? Ведь она и так уже вся изломана, исковеркана... Кому нужна она и для чего?»
Однако это настроение длиться буквально минуту и тут же улетучивается. Ибо, в самом деле, какое имеет Каржоль к русской жизни и к русскому народу, которым он и сам признает себя посторонним; недаром автор добавляет к этому прилагательному очень уместное определение «жидовский агент», применимую вообще к большинству персонажей трилогии. Но, как ни странно, героиня-еврейка – как раз в числе исключений.
Преображению героини из еврейки в русскую женщину предваряет несколько обстоятельств.
Прежде всего - обучение в русской гимназии и относительная свобода от еврейских постановлений, применимых к женщине (и первое, и второе - благодаря деду).
Далее – более существенное, отчасти, правда, связанное с двумя первыми причинами, ибо именно благодаря им в Тамаре довольно рано вырабатывается индифферентное отношение к иудейству, и даже отталкивание, а далее, благодаря наблюдению отрицательных его сторон - и активное отторжение от него.
В-третьих, оказывается, что иудейство Тамары и раннее носило чисто формальный характер: оно диктуется разного рода преданиями, слышанными от бабушки, но отнюдь не познаниями в Ветхом Завете, о котором имеют мало понятия и другие евреи, даже верующие:
«О чем говорили мне в детстве? О Боге-создателе мира, Отце всего сущего? -- Нет. О нашей священной истории, о ее великих уроках? -- Никогда. О законах нашей религии, о нравственных началах жизни, о совести, истине, справедливости? -- Нимало. И моя первая нянька-еврейка, и моя добрая бабушка пичкали мою голову сказками о реке Самбатьене, неведомо где находящейся, но о которой, тем не менее, известно, что вода ее шесть дней в неделю изрыгает пламя и камни, а по субботам утихает, -- шабашует, значит. Говорили мне, что за этою рекою Самбатьеном существует некое еврейское царство, жители которого ростом не более детей, но зато все красивые, сильные и воинственные, и что здешние евреи, будучи пока грешными, не могут еще с ними соединиться; но зато когда придет наконец Мессия и все народы станут нашими вассалами, и нам же будет принадлежать всемирное богатство, в которое вольются все без исключения богатства и сокровища всех стран и народов, -- тогда и мы соединимся с нашими братьями-лиллипутами. Но перед этим будет-де страшная война: все нации соединятся, чтобы сражаться с евреями, а евреи все же останутся победителями. Воюющие сойдутся у широкого Самбатьена, чрез который им необходимо будет переходить, и на этой страшной реке будут два моста, -- один бумажный, другой чугунный. Все народы пойдут по чугунному мосту и провалятся, а Израиль благополучно переберется по мосту бумажному, потому что под ним, вместо свай, будут стоять ангелы, и тогда наш народ торжествуя вступит в рай, где всех благочестивых евреев ожидают рыба Левиафан-левиосон, дикий буйвол и старое кашерное вино, сохраняющееся для нас еще от создания мира. Что касается собственно Иеговы, то о Нем говорили мне только или стращая, что Он меня убьет, или же о том, как Он проводит на небе свой день, разделяющийся на двенадцать часов, -- и я строго помнила, что первые три часа дня Иегова, надев на себя тфилин и талес, читает Тору, вторые три часа судит весь мир и, увидев, что все достойны проклятия, встает с престола справедливости и садится на престол милосердия; третьи три часа занимается попечением об Израиле и всех тварях, а четвертую часть дня отдает собственному развлечению и играет с левиосон-левиафаном. Кроме того, из тех же рассказов мне было известно, что Господь на небе каждый день режет и буйвола, и Левиафана, и отбирает лучшие куски для нынешних обитателей рая, а на следующее утро и буйвол, и Левиафан уже опять живы и здоровы, дабы снова покорно подвергнуться той же операции, при которой Иегова самолично исполняет обязанности шохета, менагра и маргиша».
Сравним теперь эти знания Тамары с верованиями ее родственника Айзика Шацкера, казалось бы, гораздо более ее сведущего в Торе:
«Не то чтоб он чувствовал потребность в молитве, -- в Бога Айзик тоже не совсем-то верил или по крайней мере сильно сомневался в Его бытии, -- но будучи большим еврейским патриотом, он полагал свою гордость и долг, как еврея, в неуклонном исполнении всех обрядов религии, столь резко отличающей избранную расу от остальной мирской нечисти, называемой человечеством. Он, по учению своих ламданов новейшего покроя, твердо придерживался этой обрядовой стороны собственно потому, что, веря в великое земное призвание всепокоряющего еврейства, смотрел на обряд как на цемент, как на силу, скрепляющую и объединяющую людей его расы. Притом же его самолюбию было и лестно, и приятно, когда посторонние, видя, сколь пунктуально исполняет он обряды, с похвалой называли его добрым, истинным евреем. Это, конечно, было своего рода фарисейство; но Айзик находил, что и фарисейство не только не лишнее, а напротив, очень хорошее, вполне необходимое дело для практических житейских целей».
Удивительно ли, что после чтения Евангелия Тамара решает перечитать и Ветхий Завет, размышления о котором, правда, определяются во многом обывательским взглядом, присущим больше малограмотному русскому обывателю (героиня честит даже персонажей древнееврейской истории жидами), но вот выводы, которые заканчиваются ее размышления, очень точны, и, я сказал бы даже, вполне в богословском духе:
«Перед пленом вавилонским евреи перестали даже праздновать Пасху, и только при Эздре и Ноэмии у отпущенников из Вавилона восстановляется служение Богу Единому и строится великая синагога, затем учреждается синедрион, появляются раввинизм с его Талмудом и первые зачатки кагала. Но увы! -- все это было уже поздно... Храм выстроили, но огонь небесный уже не сошел на жертвенник, как при Соломоне, и в Вавилоне была утрачена не только скиния завета, но и самый древнеевреиский "священный" язык, сильно испорченный халдейскою примесью; в самые верования вкрались чуждые учения и толки, и самостоятельная государственная жизнь исчезла навеки. Позднее раскаяние и жажда вернуть утраченное заставляют евреев сосредоточить все помышления свои на прошедшем, чтобы в нем искать пророческих обетований и знамений для лучшего будущего; все надежды устремляются на ожидание Мессии... Но проходят века за веками, проходят целые тысячелетия, а Мессии нашего все нет как нет, и все еще Израиль его ожидает...
"А что, если он проглядел Его? Что, если Мессия уже давно пришел и еврейство не признало, отвергло Его, потому что пришел Он не в том внешнем блеске и не с тем наследием всемирного царства земного, какого оно чаяло в гордом своем самообольщении? Вот ужасная мысль, которая невольно закрадывается мне в душу и смущает мою еврейскую совесть. Что, если это так, если это уже "совершилось"?.. Как быть тогда? Куда идти, куда деваться? Во что веровать? В нигилизм с материализмом, или... во Христа?»
Но, несмотря на все это, еще неизвестно, решилась бы принять православие Тамара, если бы не история с де Каржолем. Ведь, казалось бы, в монастырь Тамару приводит чистая случайность, вернее цепь случайностей. Оказалось – давняя внутренняя убежденность; и, конечно, Промысел Божий, который осознает и она сама: «Вспоминались и бессознательным шепотом повторялись ею некоторые слова и отдельные выражения ее собственных ответов игуменье, каких она как будто и сама не ожидала от себя, и даже до такой степени, что теперь сама себе дивилась, откуда вдруг взялись у нее такие мысли, такая решимость и смелость высказывать в самозащиту все, что было высказано ею. Теперь она сама уже убежденно чувствовала в душе, что бесповоротное решение ее принять христианство действительно бесповоротно, что это не фраза, а сама истина и что после её разговора с Серафимой, иначе и быть не может».
Далее: оказывается, и с любовью к Каржолю дело обстоит не так уж просто, как кажется, ибо, как мы увидим, Тамара полюбила его отнюдь не столько как мужчину, но больше как человека, обладающего Истиной и открывшего ее ей: «Когда он дал мне Евангелие, и я с жадностью, как запретный плод, поглотила его в две бессонные ночи, и когда эта книга озарила меня новым, неведомым дотоле светом, -- вот когда почувствовала я, что этот человек становится дорог мне не за свои только внешние качества, как казалось мне до этого, а за то, что, давши мне эту книгу, он открыл для меня новый нравственный мир, который поднял меня на высоту таких идеалов, до каких никогда бы не добраться мне ни с помощью современных учений, ни даже с помощью тех чудес христианского искусства, какими я наслаждалась в Италии, потому что они могли развивать только мой вкус, но оставались для меня мертвы со стороны духа, вдохновлявшего их создателей, и только теперь я уразумела, что все эти великие произведения могли быть созданы лишь силой веры, силой христианских идеалов. После Евангелия все это озарилось для меня совсем иным светом, как и многое из того, чему я училась раньше, и я поняла, наконец, чем обязано человечество идеям христианства».
Небезынтересны обстоятельства ее крещения, к возможному факту которого игуменья Серафима относится весьма настороженно по целому ряду причин, в частности и вот какой, довольно курьезной:
«И потом это принятие православия... -- продолжала игуменья. -- Вы знаете, ведь оно нередко выходит у них из побуждений очень мутных: один еврей, например, недавно еще крестился четыре раза в разных епархиях ради того, что ему за это каждый раз дарили от тридцати до пятидесяти рублей вспоможения».
Правда, к случаю Тамары, ввиду того, что она принадлежит к очень богатой семье, этот факт не имеет ни малейшего отношения, зато имеет прямое отношение другое. Рискнув крестить Тамару, игуменья поняла, что «в дело вступятся губернская власть, прокурорский надзор, жандармы, благотворительные дамы, и все они, вместе с епархиальным начальством, настойчиво станут приставать к ней, просить, советовать, требовать и понуждать ее отступиться от Тамары, выдать ее головой еврейскому кагалу... И нет сомнения, что под давлением еврейских происков -- где лестью, где тайным соблазном, где во имя либерализма и Бог весть чего еще -- все они примутся ковать это железо, пока оно горячо, -- дремать и медлить, конечно, не станут...»
Что интересно, все происходит именно так, как предчувствовала настоятельница. Привожу сцену уговоров ее губернского и, что гораздо печальней, епархиального начальства:
«- Н-нет, знаете, не то, -- слегка заминаясь, мягко начал губернатор. -- Мое мнение, если позволите откровенно высказать, лучше бы развязаться с ней, и чем скорей, тем лучше.
-- То есть как это? -- спросила Серафима.
-- Да просто, возвратите ее родным, и конец.
-- Вот, вот, в одно слово! -- перебил владыко. -- И я ведь говорю то же самое... Шутка ли сказать, из-за какой-то девчонки, и вдруг такое ужасное побоище... Да Бог с ней и совсем.
-- Этого я сделать не могу, -- решительно и твердо отказала игуменья.
-- Mais... pardon, si je ne vois pas des raisons... Почему же, собственно? Что вас останавливает?
-- Именно, это побоище, -- пояснила она. -- Выдать им ее теперь, подумайте, что ее ожидает, когда все так озлоблены против нее.
- Да Бог с ней и совсем! -- отмахнулся обеими руками владыко. -- Какое нам дело, что там кого ожидает! Свои люди, сочтутся!..
-- Что ожидает? -- подхватил губернатор. -- Ничего не ожидает. Moins que rien! Родные ее любят, я знаю их, -- ну, пожурят немножко, и конец. А что до остальных, то, поверьте, Бендавид настолько богат и влиятелен, что никто ничего ей сделать не посмеет... И, наконец, я-то на что же? Разве я, как представитель власти, допущу, чтобы кто-либо смел ей сделать какое зло!?
-- О, для зла путей много! -- заметила с горькой усмешкой Серафима. -- Но и кроме того, -- продолжала она, -- выдать им ее после того, что они сделали над православной святыней, это значило бы показать слабость... Для них, конечно, это будет торжество, но для нас...
-- Нет, позвольте, -- возразил губернатор, -- воля ваша, но я нахожу, что евреи здесь правы.
-- Правы?! -- удивленно откинулась в кресло Серафима.
-- Правы-с. Поставлю себя на их место: если бы они вдруг вздумали подобным образом обращать в иудейство мою дочь, да я... я не знаю, на что бы я решился!.. Нет, как хотите, это даже и не политично. Наша, так сказать, государственная задача здесь, на окраине, -- не раздражать les elements de la Imputation, а умиротворять, смягчать, как можно более, toutes ces rudcsses des antipathies nationalcs et des народные страсти. Ведь мы тут на виду у Европы... Что Европа скажет, что заговорит вся пресса, подумайте!.. Ведь это выходит с нашей стороны какой-то средневековый фанатизм, ведь мы этим компрометируем наше отечество в глазах всего просвещенного мира... Au rond, я вовсе не либерал, но в этом смысле разумно либеральные уступки духу времени, -- это наш долг, notre devoir le plus sacrе, если мы любим свое отечество и желаем, чтоб и другие его уважали.
-- Откажитесь, матушка; право, лучше будет... бросьте! -- убеждал со своей стороны и владыко. -- Бог знает еще, как в Петербурге на все на это взглянут...»
Как видим, методы либерального внушения, широко бытующие в наши дни, весьма успешно апробировались еще во второй половине Х1Х века, если не раньше; посему реакция губернатора на все это точно такая же, какая была бы у нынешнего чиновника: надо учесть реакцию либерального сообщества, газет, просвещенного мира и т.п. Не уступает ему в этом, что уже гораздо хуже, и зараженный тем же духом епархиальный владыка. «Что делать, - признается Тамаре благоволящая к ней игуменья, - если у нас и христианский дом, и сан, и духовные дела, и все на свете обличены в такой стеснительный чиновничий формализм».
Кстати, всю мелочность этих людей, в том числе и губернатора-либерала, равно как и их зависимость от ее иноплеменников, Тамара с удивлением, если не с гневом наблюдает во время приезда из Вены ее отца-банкира, что позволяет ей сделать следующие выводы: «Удивительное, право, дело, что значит в глазах людей золотой мешок!.. Ну что такое казалось бы, для всех этих важных господ мой папа? -- Случайный, мимолетный гость нашего города, совсем посторонний и даже не интересный человек. А между тем, все, не исключая самого Mon Simon и его супруги (под этими именами, а лучше сказать – кличками, фигурируют в романе губернатор и его жена), за ним ухаживали, как за каким-нибудь "знатным иностранцем", а некоторые столь явно и вовсе не тонко льстили и, можно сказать, лебезили пред ним, почти до подобострастия, что мне, иными минутами, в душе просто совестно за них становилось. И подумаешь, из-за чего все это?.. Даже и не из-за "Гекубы"!.. Я понимала бы еще, если бы хоть денег, что ли, рассчитывали они занять у него, а то ведь и этого нет, -- бескорыстно! Из-за того лишь, что он "известный венский банкир", "de la haute finance", -- и только! И эти же самые люди, без сомнения, самым искренним образом презирают и осуждают между собою евреев (и моего отца в том числе, конечно) за будто бы искони присущее нам поклонение "тельцу златому". -- Господи! Да разве это не то же самое?!»
Последняя фраза – еще одно подтверждение правильности моих рассуждений по поводу замысла Крестовского. Еще хуже обстоит дело за границей, в Вене, где несколько лет прожила Тамара и о чем мы узнаем из ее дневника, выдержки из которого занимают добрую четверть, если не треть, всего объема романа Тьма Египетская.
«В сущности, тут нет ни христиан, ни евреев, а есть одни только "добрые венцы", -- тип совершенно особенный. Так, по крайней мере, в том кругу, где я вращаюсь. Казалось бы, это-то и должно мне нравиться при моих эмансипационных симпатиях, при моих гуманных всечеловеческих идеалах, а между тем, нет, и далеко нет. Дело в том, что тут еврей, хотя и крепко поддерживает "брата своего", но не чуждается и христиан, и при этом столько же заботится о своем Иегове и законах Моисея, сколько христианин о Христе и папе: и тот и другой просто игнорируют религиозную сторону своей жизни, или относятся к ней чисто формалистически. Но не веря ни в Бога, ни в черта и не имея в душе никаких идеалов, тот и другой одинаково поклоняются Ваал-Фегору. Это истинное царство Ваала, где решительно все, все продается и покупается, так сказать, с публичного торга, где вся жизнь, все духовные, умственные, общественные и другие интересы, нравственные побуждения и стремления, и даже сами таланты меряются и оценяются только на деньги, где о человеке не спрашивают, хорош ли он, умен ли, честен ли, а интересуются лишь тем, сколько у него годового дохода, сколько он "зарабатывает" и как стоят его дела на бирже, где, наконец, даже сама благотворительность, общественная и частная, является не столько побуждением сострадательного сердца, сколько актом тщеславия или внешней обязанностью известного общественного положения. По деньгам здесь и честь, и почет, и положение. В жизни, конечно, много блеску, много роскоши и шику, но весь это блеск и шик только снаружи, на показ, а внутри, в домашнем обиходе, такая скаредность, такое мелочное, грошовое скопидомство, эгоизм и нередко такая грязь, что просто противно становится. Нет, не по душе мне этот склад жизни и, положа руку на сердце, скажу откровенно, что если наши украинские хасиды не совсем-то мне симпатичны, то здешние "цивилизованные израэлиты" еще противнее. -- У тех внутри хоть что-нибудь есть, у этих ничего».
И еще больше уравнены формальные западные христиане с иудеями в еще одной записи дневника Тамары, описывающей сватанье к ней в Вене тех и других:
«Тетка Роза с мужем, да и мачеха тоже, очень желали бы "пристроить" меня замуж, и на руку мою уже являлось несколько претендентов-христиан и евреев -- и молодых, и пожилых, и солидных, и вертопрахов... Был даже один прогоревший венгерский магнат, ради которого мачеха, из-за его графского титула, советовала мне переменить религию, а именно, принять протестанство, потому что, во-первых, здесь это самое заурядное дело, а во-вторых, решительно все равно где молиться так или иначе, или вовсе не молиться; такая перемена -- это-де одна пустая формальность, так как, будучи наружно христианкой, я в душе, сколько угодно, могу оставаться еврейкой, если мне это так нравится, даже посещать синагогу, и муж меня в этом отношении нисколько стеснять не существо станет; конечно, можно бы было и еще проще: при вании в Австрии Confessionlos, ограничиться одним гражданским браком, не меняя религии; но переход в протестанство необходим собственно как уступка взглядам высшего общества, требующего для брака церковного благословения. Но ведь за эту уступку муж-магнат даст мне блестящее положение в свете, а я, взамен того, буду содержать его на всем на готовом и ежемесячно выдавать на его "маленькие нужды" приличную "карманную" сумму, не подпуская, впрочем, к непосредственному распоряжению моими капиталами, чтобы не прогореть с ним вместе. Ну, и разве я не права была, говоря когда-то, что тут во всей красе процветает культ Ваала?!..»
Кстати, эти обличения иудейства со стороны принадлежащих к нему по рождению людей, отнюдь не единичны. И ладно бы они исходили от Тамары, по высокому происхождению своему достаточно чуждой кагальной зависимости, которую, впрочем, и ей пришлось на себе испытать после смерти отца; они исходят также от закабаляемых этим кагалом людей. Но и факт знакомства Тамары с кагальными обычаями очень важен в понимании ее окончательного разрыва с родственной ей по происхождению средой, чтобы мы могли его опустить. Прочтем еще одну выдержку из ее дневника, которую стоило бы предварить описанием мытарств по кагальной бюрократии, нашедшей, наконец, возможность, насесть на нее после смерти отца:
«С растерзанной душой, изнемогая от горя и сгорая от стыда и бессильного негодования, возвратилась я с кладбища домой и...должна сознаться самой себе, что с этого ужасного дня я возненавидела не только святейшее братство со всеми его габаями, со всеми этими жадными хаберим и каброним, -- нет, этого мало... В этот день я впервые почувствовала, что начинаю ненавидеть самое еврейство, -- не как людей, но как общество, рабски покорное своим деспотическим кагальным учреждениям. И если уже подобные издевательства столь нагло проделываются над нами, членами семьи такого почтенного и родовитого человека, рука которого не оскудевала всю жизнь рассыпать милостыню и оказывать всяческую поддержку своей общине, то можно представить себе, какие бесстыдные мерзости и низости творятся этим святейшим братством и этим "пречистым" кагалом над людьми среднего и низшего состояния, над темною еврейскою массой, в особенности, когда захотят мстить за что-либо неугодному им человеку...»
Судить о том, кто выглядит гаже в дневнике непредубежденной и честной девушки еврейки – формальные иудеи или формальные христиане, предоставляю читателям.
Ведь жидовство, по Крестовскому, повторю еще раз эту важную мысль – это отнюдь не исключительная привилегия еврейской нация, сюда он относит и преданных идее Ваала русских аристократов, что мы уже видели, и наживающихся на чужой беде торговцев-армян, и даже вполне православных греков , сербов, болгар и румын; а в одном месте романа «Тамара Бендавид» Кретовский предлагает нам вчитаться в перечислительный ряд наживающихся на грязных сделках адвокатов из « жидов, полячков и армян, греков и русаков». И еще один, на этот раз уже довольно куръезный эпизод: в поисках адвоката, нужного ему для развода с женой, Кержоль последовательно обращается вначале к адвокату-еврею, затем к двум адвокатам-русакам – и оказывается, что они ничем друг от друга не отличаются. Опять, как мы можем убедится, уравнение дается безотносительно национальности, но лишь исходя из общей для всех стремления к наживе. Руководствуясь этой мыслью, Крестовский, задавшийся целью исследовать воздействие золотого тельца на все слои тогдашнего общества, не питает никак иллюзий ни по поводу людей, ни общественных групп (самое страшное, что он нам предлагает в этом смысле – это нравственный распад поддавшейся духу времени русской деревенской общины в заключительной части трилогии – «Торжество Ваала»).
Вообще, в романе на чисто практическом уровне много прозрений, правоту которых русские почувствовали только в конце двадцатого века. Например, геополитические - рассуждения о братьях-болгарах, довольно неожиданные для того времени и вполне в духе тоже не питавшего никаких на этот счет иллюзий Константина Леонтьева, предсказывавшего, как известно, измену болгар своим освободителям. Так же и Крестовский.
«Особенного расположения к русским, как и особенной ненависти к туркам, к удивлению Тамары, у всех этих болгар не замечалось, - пишет он в конце ХХ1 главы Тамары Бендавид. - "И руси-ти добры, и турци-ти добры, сички добры!"-- лукаво и уклончиво, себе на уме, высказывались они в ответ на вопрос, каково им жилось под турками. В их тупой эгоистической замкнутости проглядывало, скорее, безразличное равнодушие к русским "освободителям" и к их успехам или неудачам, если даже не затаенное недружелюбие и предубеждение против скверных "братушек", с которых почти все они и повсюду старались только за все про все драть втридорога: даром ни малейшей услуги! А их "чорбаджии", "мухтары" и многочисленные турецкие чиновники из болгар относились к "освободителям", где можно было не боясь за собственную шкуру, даже прямо с враждебностью и охотно служили туркам, чуть лишь представлялся удобный случай, наилучшими шпионами. Ввиду всего этого, а главное, ввиду удивительной инертности этого народа, в душе Тамары, как и у большинства русских людей за Дунаем, возникло, наконец, сомнение, -- да полно, точно ли болгарский народ так несчастен и угнетен, как прокричали перед войной во всех русских и многих английских газетах? В ближайшей к ней среде ее товарищей по госпиталю, между больными и ранеными и между знакомыми офицерами, все чаще и откровеннее подымались разговоры и толки на эту, щекотливую в начале войны, тему, и возникали, полные сомнений, вопросы, -- точно ли болгары сознают себя "братьями" русских и так ли жаждут, все поголовно, освобождения из-под турецкого "ига", да и чувствуют ли, на самом деле, это "иго"? Нет ли тут какого недоразумения, миража, идеалистически созданного себе нами самими? Не было ли напущено во все это дело наркотического чада, который под влиянием неприкрашенной жизненной действительности и при ближайшем знакомстве с ней начинает теперь проходить? Ведь вот, кричали же и считали за непреложную правду, что болгары разорены, обобраны турками до последней крайности, доведены до страшнейшей нищеты, до полного отчаяния, а на поверку оказывается, что каждый из этих "селяков" куда зажиточнее среднего русского мужика, только жить привык он скаредом и, что называется, по-свински, как ни один русский мужик жить не станет. Кому, собственно, нужно это "освобождение"? -- уж не горсти ли болгарских "интеллигентов" и политиканов, которые, с помощью досужих или не в меру доверчивых корреспондентов взмыливали пену общественного мнения в "либеральной" Европе и в России, не остывшей еще от увлечений добровольческой войны в Сербии? Таким образом, война далеко еще не была доведена до конца, а у "освободителей" явилось уже значительное разочарование в "освобождаемых"; но это, впрочем, скорее, было разочарованием в своих собственных иллюзиях, возникших из собственного же незнакомства со страной и народом, на освобождение которого все ринулись было вначале с таким беззаветным, братским увлечением».
И это далеко не все - сходные геополитические суждения высказываются еще неоднократно. Вот еще более далеко идущее, касающееся тех же юго-западных славян:
«В это же время крайнее неудовольствие против той же России проявляли и Сербия, и Румыния, и Греция, пальца о палец не ударившая, чтобы помочь в войне за освобождение балканского христианства. Ристич, в своей речи в скупщине прямо высказывал, что Сербия под австрийской эгидой может достигнуть такой силы, какой она никогда не дождется при покровительстве России, что с помощью австрийской политики сербы получат возможность основать большое южно-славянское государство, простирающееся от Дуная до Эгейского моря и от берегов Искера до Адриатического моря, и что только этим путем можно положить предел безграничному русскому произволу и поставить под мощную охрану Габсбургской монархии национальное сербское достояние, сербский язык, литературу, веру и в особенности конституционный образ правления, и этим самым-де явится деятельный противовес московским тайным замыслам. Румыния тоже возгремела против России. В Букареште вновь раздались речи о "великой миссии" Румынии как передового моста Европы против "московского варварства". По вопросу о возвращении России отторгнутого у ней в 1856 году клочка придунайской Бессарабии, сенат и палата депутатов единогласно постановили поддерживать целостность румынской территории и не допускать отторжения какой бы то ни было ее части, хотя бы за земельное или какое-либо другое вознаграждение. С этой целью Румыния начала даже готовить против России свою армию, намереваясь присоединить ее к австрийцам. Даже болгарские политиканы, у которых еще не зажили спины от вчерашних турецких канчуков, -- и те уже заносчиво мечтали, что будущее на Босфоре принадлежит не "отживающей" России, а им, в смысле великой болгарской империи, со столицею в Царьграде, что пускай только Россия поможет им окончательно стать на ноги, а там они уж расправятся с ней без церемонии и сделают из своей великой Болгарской империи навеки твердый оплот для европейской цивилизации против "московской азиатчины". Выходило, как будто Россия жестоко виновата в чем-то перед всеми, и большими и малыми, -- все вдруг оскалили против нее зубы и зарычали или затявкали.
Положение было какое-то странное, двусмысленное, полное лжи и предательства».
О французах, англичанах, немцах, ненавидящих Россию и со всех сторон подставляющих ей ножку, в особенности в качестве союзников, я думаю, не стоит и говорить: слишком хорошо мы узнали о степени этой ненависти теперь. Но лучше бы узнали раньше, получив возможность прочтения запрещенных работ русских геополитиков-патриотов, в том числе и Крестовского - это уберегло бы нас от иллюзией в отношении наших многочисленных «друзей», мгновенно заделавшихся врагами в восьмидесятые-девяностые годы прошлого века. Говоря это, я не хочу сказать, что, не питая иллюзии насчет неоднократно предававших нас юго-западных славян, мы должны приобрести вместе с этим равнодушие к их настоящей и будущей участи. Отнюдь нет.
Повторю еще раз: жид, по мнению Крестовского, которое я вполне разделяю, не только и не столько тот, кто является евреем по рождению, но больше тот, кто, не считаясь с фактом своего происхождения, переняв его повадки, готов им стать. Посему и название трилогии выражает не просто предчувствие или даже констатацию как факта наступающего или наступившего еврейского мирового господства – это было бы слишком мелко для того глобального обобщения, которое, несомненно, имеется в трилогии. Дело ведь не в навязывании жидовского, читай - паразитического образа жизни миру, а именно в поголовной готовности каждого из его членов его принять. Ведь никто же силком не заставляет лезть русских аристократов в жидовские тенета – они, любя деньги паче дворянской чести, лезут в них сами.
Признаюсь, в трилогии Крестовского меня самого поразила не столько идея всероссийского или даже всемирного еврейского господства, которая там синонимична идее торжества всепоглощающей продажности и пошлости, - сколько именно вот это добровольное подчинение, причем безоговорочное, этой идее едва ли не всех представителей высшего русского общества, от которого, собственно, в силу причин, которые слишком пространны, чтобы о них сейчас говорить, всегда зависела и будет зависеть судьба будущего России. Что самое печальное, дело даже не столько в моральном состоянии низших слоев, т.е. – собственно, в народе, который в этом смысле просто-напросто вынужден подчинятся или, если угодно, считаться с обстоятельствами, спускаемыми ему сверху, сколько, как внушает нам Крестовский, за счет того, что до нужд и страны, и живущего в ней народа стремительно деградирующим и нравственно пошлеющим верхам не было никакого дела уже тогда.
Послушаем разговор посетителей либерального салона, содержимого женой крупного государственного сановника, что отнюдь не мешает впущению в его дом представителей самых разнообразных слоев, настроенных крайне нигилистически:
«- Вы говорите, немцы, -- возобновил тот же разговор тайный советник, обращаясь к де-Казатису, -- что ж из того, что они нам угрожают?
-- Как что? -- горячился земец. -- Не успели кончить одну войну, как придется начинать другую?
-- И прекрасно-с, я очень рад!
- Да что-ж тут прекрасного?! Помилосердствуйте! -- Отхватят от нас Остзейский край, Литву, Польшу, Украйну...
-- И прекрасно-с, пускай отхватят. Чем скорей, тем лучше.
-- Да я вовсе не желаю быть под немцем!
-- Напрасно-с. Под немцем, по крайней мере, порядка больше будет, культуры больше, и общество получит известные правовые гарантии, которые уравняют нас наконец с Европой. Да мы, молодое поколение, -- мы этих гарантий и сами добьемся.
-- Н-ну-с, это бабушка еще надвое говорила. Бисмарк вам даст их скорей, чем Тимашев.
-- Да ведь это же, однако, новое разоренье для народа, для платежных сил! Подумайте, -- шутка сказать, война! И без того уже бедствуем! У нас вон земство второй год зерно на обсеменение полей покупает!
-- И прекрасно-с, и прекрасно-с!.. Пускай!.. По-моему, чем хуже, тем лучше, -- по крайней мере, к развязке ближе».
Если такие настроения бытовали уже тогда в относительно здоровой и могущественной стране, то что уж говорить о задворках Европы, где происходит большая часть действия романа «Тамара Бендавид», и где мы можем прочесть, например, об одном из высших государственном сановнике, близком к королю, наделенным Крестовским многоговорящей русскому уху фамилией Мерзеску.
«Господин Мерзеску, - пишет Крестовский, - являл собою продукт той печально-знаменательной эпохи, когда после 1856 года взоры боярской Молдо-Валахии отвернулись от Востока и всецело обратились на Запад, ища и чая исключительно там своих идеалов и своего спасения и обновления, причем "интеллигентное" правительство и "либеральная" палата прежде всего постаралась изгнать свою древнюю кириллицу и заменить ее латинским алфавитом, и когда, сообразно такому началу, пошла радикальная ломка почти всех остальных форм и порядков прежней самобытной жизни. Для господина Мерзеску, как и для современного "цивилизованного" румына, необходимо воспитавшегося на венской Rings-Strasse или на парижских бульварах, наивысший социальный и нравственный идеал, к которому он стремится всею душой и всеми помыслами, составляют оппортунистический либерализм и Париж, но не столько нынешний, сколько наполеоновский, -- Париж Второй империи, со всем его мишурным блеском, нарядной внешностью и внутренней пустотой и гнилью разврата общественного и семейного, с его широкою продажностью -- от высших сфер и министерских кабинетов до сокровенных сфер супружеского алькова включительно, -- с его скаредностью и жадностью, с бесшабашным стремлением к быстрой, хотя бы и темной наживе, с легкомысленным поверхностным отношением ко всему на свете, кроме интересов собственного кармана, с полным индиферентизмом к религии, к семье, к гражданским обязанностям и, наконец, с его громким, но пустым газетным и парламентским фразерством. Оффенбаховщина и бульварность в жизни, в нравах, в модах, в идеях и стремлениях вместе с полуцыганскою-полуазиатскою неряшливостью, грязцой и цинизмом во внутренней своей сущности и в домашних, непоказных порядках, -- такова была нравственная физиономия господина Мерзеску, этого столпа румынской государственности».
Сравним характеристику этого государственного румынского деятеля, чистогокровного румына, с характеристиками многочисленных пронырливых и беспринципных еврейчиков (не евреев, именно еврейчиков, ставших основателями современной нам плутократии), действующих в романе – и увидим, что они совпадают почти дословно. Таким же Мерзеску, только применительно к русской жизни предстает, например, кажется, уже упомянутый нами раннее господинчик с говорящей фамилией Блудштейн, путем взяток приобретшего себе орден Станислава, и – следующий шаг - тем же путем намеревающийся приобрести генеральский чин. Это, что называется, не просто практическое воплощение мечты Айзека Шацкера, упомянутого раннее, но куда более страшнее, ибо связано с внедрением жидовства в саму сердцевину русской жизни:
«Пхе! Были бы деньги, а генералом будет. Он не сомневался, что выгодно купит себе по дешевой цене и славу, и популярность, приобретет и вес, и влияние, силу и могущество, что министры и сановники будут интимно обращаться к нему за советами и с маленькими просьбами по их личным биржевым и акционерным делам, или за протекцией в пользу каких-нибудь своих бедных родственников, вроде погоревших ротмистров или вылетевших в трубу губернаторов, о предоставлении им приличного местечка по его обширной администрации. А он за это, в свой черед, будет влиять через таких сановников в пользу своих собственных дел и еврейского вопроса».
Да, Абрам Блудштейн последовательно и с уверенностью утверждает себя в русской жизни, которая, по любви к деньгам и по неумению их наживать, само, добровольно, предоставляет ему, по его же собственному выражению, и золотой дождь, и миллионы, и развернутые с размахом торговые спекуляции, и толпы посетителей в прихожей, и орденскую лента через плечо, и сам орден, да мало ли еще что. А вот русский Кержоль (впрочем, русский ли?), долженствующий по своему происхождению и положению превосходить его, из этой жизни выпадает. В чем же дело? А том, что местечковые деятели, всю жизнь кладущие на умножение кошеля, умеющие беречь копейку, становятся в результате хозяевами всего, что можно купить (а купить, по мрачной, но справедливой мысли Крестовского можно всех и вся), тогда как русские промотавшиеся аристократишки, не обладают даже простым здравым смыслом, который должен бы был уберечь их от неудержимого мотовства, не говоря уж о порабощающей их жидовской кабале. Эта простая мысль доходит, наконец, и до Кержоля.
«Каржоль принялся после этого внимательно проверять поданный ему расчет, где красивым конторским почерком были прописаны все произведенные ему авансы, выдачи, жалованье и т. п. Итог составлял довольно изрядную сумму, и граф не мог не согласиться, что все прописанное было верно, до единой копейки. -- Неужели же, в самом деле, он за всю кампанию проухал такие деньги?! Тридцать девять тысяч с лишком! Да ведь это целый куш! Одного жалованья за это время получено тринадцать тысяч... И где все это? Куда истрачено? Как, когда? -- И сам теперь не понимает! Деньги процедились между рук, как вода сквозь сито, точно бы их и не было.
-- Однако, это выходит, -- начал он после грустного и тяжелого раздумья, -- выходит, что за всю мою службу, за все мои труды и старания, я вышвырнут вами на улицу, как выжатый лимон, без средств, даже без гроша в кармане! Другие там, разные Сахары, Миньковские вернулись богачами, а я -- круглый нищий, хоть руку протягивай! И это за то, что служил вам добросовестно, честно, не обворовывал, как другие, "Товарищество"... Спасибо! Нечего сказать, наградили!
- А кто ж вам виноватый? -- с непритворным удивлением расставил ладони Блудштейн. -- Кабы мы не платили вам, а мы же платили харошо! -- Ну, вы и копили бы себе! Сахар! Вы говорите, Сахар. -- Сахар, может, меньше вашего получал, но Сахар в карты не играет. Сахар з артистками не знаком, шимпанскаво не пьет... Сахар начал с маленького гешефт, заработал на нем, стал делать гешефт побольше; сделал побольше, -- принимайся за большой гешефт, а там и пошло, и пошло, -- зато Сахар, звините, обстоятельный человек, -- ну, зато и богач теперь. Были бы вы такой, как Сахар, были бы и вы богач. Когда ж тут кто, кроме вас самих, виноватый?!».
Одним словом, наглядная иллюстрация русской пословицы дружба дружбой, а табачок врозь в еврейской интерпретации; и – в духе несколько раннее приводимого автором диалога:
«-- Я для вас не посторонний человек, -- заметил на это граф тоном задетого достоинства. -- Я, кажется, ваш компаньон.
-- Пхе!.. компаньон! -- пренебрежительно усмехнулся еврей. -- Пазжволте взнать, ви много денег в компанию вложили?
-- Я вложил мое имя, -- заметил граф с оттенком благородной гордости, надеюсь, что это что-нибудь да значит!
-- Н-но! За ваше имя вам и платили... Вы были такой же наймит, как и всякий другой... Кому за труды, а вам за имя».
При чтении этих и других эпизодов поневоле приходит мысль: опасен, может быть, этнический жид, ходящий кругами вокруг русского человека аки лев рыкающий, строящий различные козни русскому государству, желая его запутать и погубить, но еще опаснее -завистливый и алчный жид, живущий внутри едва ли не каждого человека, готовый ради звонкой наличности изменить своему менталитету, нации, родине, ждущий своего часа и готовый пробудиться при первой же подвернувшейся возможности наживы, и, следовательно, предпочтения Христу Богу божка мамоны.
Поэтому совсем уж страшно читать третью часть трилогии, где действие переносится в ожидовляемую русскую деревню. Но этого последнего романа, названного «Торжество Ваала» я касаться не буду ввиду неосведомленности в поднятом Крестовским вопросе, а потому и своей неготовностью к анализу. Скажу лишь, что главная мысль этого романа, еще более актуальна в наши дни, чем все предыдущие. Это - отсутствие твердой и патриотической власти в Российской Империи – еще один, парадоксальный виток развития столь тревожащей Крестовского темы.