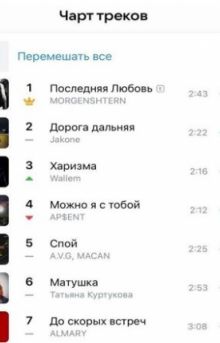14 марта 1918 года в журнале «Огонек» № 2 был напечатан рассказ Александра Ивановича Куприна, одного из самых известных тогда писателей, под названием «Гусеница». Рассказ этот был весьма небезразличен автору, который в письмах редактору В. Бонди дважды просил прислать ему корректуру, мотивируя это так: «Ах, как бы я отшлифовал рассказ». Но в той турбулентной политической ситуации, которая царила кругом, приходилось все делать наспех, поскольку завтрашний день был непредсказуем. И рассказ пошел в печать в первозданном виде.
О чем он был? В горячке революционных дней рассказ посвящался именно тем людям, кто в царской России приближал, как мог, эти самые дни, но не всем подряд, а исключительно… женщинам, участницам тайных антиправительственных обществ.
Рассказ состоит из двух частей, причем первая носит характер предисловия, подводящего ко второй, главной. Начинается все с того, что автор якобы рассматривал вдвоем с приятелем «фотографический альбом для руководства филеров по политической службе. Это была небольшого формата, но довольно толстенькая книжка, которая развертывалась и складывалась, как гармония, с карточками на обеих сторонах – словом, нечто вроде карманного альбома видов какого-нибудь города или морского побережья. Попала она к нему очень кружным путем в те дни Февральской революции, когда громились и сжигались полицейские участки». И там, среди фотографий разных персон, отслеживаемых охранкой, автора поразили своим выражением портреты женщин: «Вера Фигнер и Засулич, обе в молодости, Екатерина Константиновна Брешковская, Коноплянникова, Спиридонова, Маня Школьник, Нина и Наташа – севастопольские героини, и еще, и еще. Посмотрите, как спокойны и просты их лица и что за прекрасное выражение в этих ясных, таких человеческих глазах. Чувствуешь, но не расскажешь словами. Тут и нежная доброта, тут чистота мысли, и светлая печаль, и какая-то счастливая обреченность, и великая любовь, и непоколебимая твердость решения... и – вглядитесь – какая мягкая, какая естественная женственность! Вот я точно вижу, что идет по улице такая женщина, чтобы убить какого-нибудь усмирителя. В сумочке у нее восьмизарядный браунинг, а мысль о неизбежности собственной смерти так уже перемолота в душе, что стала совсем привычным, второстепенным, будничным вопросом. А около лавчонки ревет пресопливый, прегрязный мальчишка, бутуз лет пяти, – потерял копейку. И вот она зашла, купила ему пару маковников, утерла замурзанную мордашку, одернула рубашонку и пошла дальше на суровое, не женское дело, на смертный путь, на Голгофу»[1].
Эта маленькая, но в высшей степени комплиментарная зарисовка – камертон, задающий главную ноту для будущего повествования, ведущегося от лица некоего агронома, любившего проводить свободные от работы месяцы близ Севастополя (знающие люди сразу узнают Балаклаву). Отталкиваясь от вышеприведенной реплики автора, рассказчик для начала раскрывает мизансцену: «время действия – осень 1905 года, место – южный берег Крыма». Действующие лица – «коренные жители, греки-рыболовы, да мы – случайная малая кучка интеллигентов». На этом скупом фоне кратко обрисована главная героиня, жена чахоточного приват-доцента, зоолога:
«…Ирина Платоновна. Была она такая распрорусская женщина, бывшая институтка, но совсем простецкая баба, добрая, толстая, немного распустёха, все поселковые новости раньше всех знала. Газет никогда не читала и от наших мировых вопросов зевала самым неприкрытым образом. Муж был несправедлив к ней, срывал часто на ней свою внутреннюю тоскливую злобу, грубо осаживал при посторонних, высмеивал беспощадно... Всегда в широком капоте, с открытой жирной, белой шеей, а перед платья непременно стеарином закапан». Однажды, в ответ на ее реплику о крыжовнике, муж Борис «усмехнулся криво, одной щекой, и съехидничал: “Ты не женщина, а гусеница. Ты пяденица крыжовниковая – Abraxas grossulariata. Вот ты кто”. Зло это было сказано, что и говорить, но как-то прилипло к ней это словечко. Так заочно и звали ее Гусеницей».
И, наверное, все бы так и оставалось вечно, и Гусеница купринская ничем бы не заслужила нашего внимания, не случись однажды событие вполне роковое.
В устах агронома революция 1905 года описана в ностальгических нотках: «А тут пошли и большие события. Началась всероссийская забастовка. Прекратились почта и телеграф, стали железные дороги… Я про теперешнюю революцию ничего не скажу... дело веселое. Но тогда, тогда!.. Сколько радости было, надежд и светлого опьянения какого-то... И сколько любви! Ах, тогда многие люди проявляли свою душу в таком масштабе, который превосходил все отпущенные человеку размеры!».
Но однажды душевное веселье для революционеров и их свидетелей и сочувственников закончилось:
«Вдруг вспыхнуло восстание в Черноморском флоте. Шмидтовcкие дни... Потом расстрел “Очакова”. Канонада и до нас доносилась, даром что мы в тридцати верстах жили... А на другой день после “Очакова” Борис спешно послал за мной и за другими. Мы собрались к нему. Сам Мурузов был злой, взлохмаченный, нахмуренный, то молчит, то по комнате быстро ходит. А на диване сидит незнакомая девушка, вернее сказать, девочка, тоненькая, хрупкая, с детским милым личиком, но в глазах, в душе этих больших серых глаз, именно та глубокая человеческая красота, и ласка, и чистота, все, о чем вы вот сейчас говорили по поводу альбома».
Это оказалась некая «товарищ Тоня» (партийная кличка «Конфетка»), которая «рассказала все, что в Севастополе произошло на этих днях и вчера. О том, как матросы заняли караулы в городе, как Шмидт поднял флаг на “Очакове”, как он объезжал корабли с адмиральского борта, как с ним от страшного переутомления случился припадок и как Чухнин приказал обстрелять крейсер “Очаков”. Говорила она сжато, деловито, сухо и каждое словечко отчеканивала, как строгая учительница, объясняющая детям задачу, но глаза блестели, точно звезды. Многие матросы, по ее словам, сгорели заживо, другие пробовали спастись вплавь на своих тюфячках и на кругах, но этих у берега расстреливали солдаты из пулеметов или прикалывали штыками. Иные потонули, не смогли долго держаться – вода была чересчур холодна. Но часть матросов все-таки спаслась на другой берег, и теперь десятеро из них здесь неподалеку спрятались в балке, в кустарнике. Надо во что бы то ни стало достать им денег и вольную одежду. Паспорта уже есть. А главное, дать им несколько часов передохнуть в безопасности после тех ужасов, которые они пережили за эту ночь. “И затем скройте их на несколько дней, рассейте где-нибудь по окрестным имениям и виноградникам. Думайте, думайте! Шевелите головами, товарищи. Помните, что каждому из этих самоотверженных людей грозит наверняка смертная казнь, если они попадутся в руки жандармов”».
Тоня ушла, а чахоточный зоолог «скис и смяк, царство ему небесное, и довольно противно это у него вышло». Он стал вилять, оправдывая свое сильное нежелание участвовать в революционной буче даже таким косвенным манером, но… внезапно «на него великолепно прикрикнула Ирина Платоновна!..
– Трус, не прячься за угол, – твою тень видно! Люди всю ночь в студеной воде дрогли, не спали, не ели, каждую секунду смерть перед глазами видели, а ты про полномочия! У них петля на шею накинута, а ты разводы разводишь. Не можешь, не надо, тебя никто не осудит, ты – человек больной. Но молчи, ради бога, молчи и не стыди ты меня!
Ну и принялась же она за дело. Кипяток! В какой-нибудь час обегала всех интеллигентов и выжала, выкрутила из них все, что только возможно по части денег, обуви и одежды. Некоторые упирались: “Да я и так сколько передавал на эти сборы и подписки. Да я человек семейный и не имею права рисковать жизнью жены и детей”. Старая песня. Но она вцеплялась в них, как такса в ухо кабана. “А вольнодумствовать любите? А кукиш в кармане кажете? А тиранов проклинаете в тряпочку? А “Вставай, подымайся” напеваете шепотком? Ну вот вам, поднялся народ, встал. Чего еще хотите? Так и помогайте ему. От вас жизни никто не требует, а только старых брюк и немного денег из бабушкина чулка”.
Потом она удивительно ловко распорядилась доставкой одежды матросам, залегшим в кустистой балке. Переодетые, они входили в поселок по одному, а мы сидели и стояли на перекрестках, как маяки, и незаметным кивком головы указывали, куда поворачивать. Трех она направила в больницу, тогда, по счастию, пустовавшую, двух – к фотографу, а пятерых на время приютила у себя».
Тут Куприн не удержался и вторым планом показал читателю самого себя как участника оной эпопеи: «Но тут, спасибо, выручил вот этот самый, что называл себя писателем. Явился, черт его знает откуда, весь в рыбьей чешуе, но с водкой, с колбасой, с таранью и с жареной камбалой. И грубый какой! “Нечего, говорит, вам здесь петрушку валять. Ну-ка, ребятушки, тяпнем после трудов праведных”. Кто-то было захотел возмутиться: “Позорно в дни таких великих событий думать о пьянстве”. Но если бы вы только видели, как они накинулись на еду и с каким наслаждением пили водку. И Ирина Платоновна, когда вернулась, очень благодарила писателя за находчивость».
Но это – второстепенная детель и для рассказа, и для рассказчика, и, разумеется, для читателя. А главное – вот: под утро агроном и Ирина Платоновна, она же Гусеница, «проводили свою партию, четырех матросов, довольно далеко, верст за восемь… Ирина Платоновна одного за другим молча перекрестила всех четырех. И они молчали, обнажая стриженые головы. Я сбоку глядел на нее. Как помолодело и похорошело ее лицо, освещенное розовым мягким светом, сколько в нем было того интимно прекрасного, глубоко человеческого, за что единственно можно и должно любить человека и нельзя не любить. А главное, все, что она сделала, ей ровно ничего не стоило. Это истекало из несложной и радостной потребности ее теплой русской души».
Вот, собственно, и весь рассказ. А приведенные только что строки – это как раз то самое, ради чего он и написан. Это восторженный гимн русской простосердечной и самоотверженной женщине, чья высшая суть – сострадание: гуманизм в самом чистом виде.
* * *
К этому купринскому рассказу нужно дать минимальный комментарий, чтобы напомнить моему читателю события более чем вековой давности, о которых сегодня и историки-то не все имеют представление.
Революция 1905 года, про которую агроном вспоминает как про «дело веселое», полное радости, надежд и светлого опьянения, была в действительности событием весьма страшным и кровавым[2]. Недаром в ходе революционного двухлетия русская интеллигенция в своем абсолютном большинстве оказалась в только что организованной партии кадетов, а из левых партий, в частности из РСДРП, начался ее массовый отток. Жуткий лик «пролетарской революции» отрезвил увлекшуюся было революцией интеллигенцию. Кстати, Ленин очень живо и верно описал эту ситуацию: «Погодите, придет опять 1905 год. Вот как смотрят рабочие. Для них этот год борьбы дал образец того, что делать. Для интеллигенции и регенатствующего мещанства, это – “сумасшедший год”, это образец того, чего не делать» («К оценке русской революции»). Уроки первой революции были в целом хорошо усвоены интеллигенцией; они с большой отчетливостью были выражены в знаменитом сборнике «Вехи» (1909). Ленин со зла обозвал книгу «энциклопедией либерального ренегатства»[3]. Но для интеллигенции это была лишь запоздалая попытка осмыслить революционный опыт, прозреть, определиться и понять, что борьба за конституцию и демократические свободы – слова, печати, совести, союзов и собраний – не имеет ничего общего с борьбой за социализм и диктатуру пролетариата. Попытка, повторю, запоздалая.
Что же касается непосредственно 1905 года, то одним из центральных событий революции было то самое восстание на «Очакове». Оно длилось долгих пять дней, внося страшную сумятицу в умы и потрясая основы жизни. Долгим эхом отозвалось оно в нашей истории, не исключая и приснопамятных «сыновей лейтенанта Шмидта», выведенных для смеха Ильфом и Петровым в своем романе. Хотя в самом событии смешного было мало.
Началось 11 ноября, когда в бурлящем забастовками и митингами Севастополе поднялся организованный социал-демократами мятеж среди матросов Флотского экипажа, солдат Брестского полка, запасного батальона крепостной артиллерии и рабочих порта. Тогда же должны были состояться выборы в Совет рабочих, матросских и солдатских депутатов, в связи с чем планировалось проведение митингов у матросских и солдатских казарм – взрывоопасная ситуация. Верный долгу адмирал Г.П. Чухнин, стремясь предовратить бунт, направил туда сводный отряд из матросов флотских экипажей и солдат Белостокского полка, которые заняли выходы из казарм и не выпускали матросов на митинг. В эти минуты матрос К. Петров выстрелил из винтовки вначале в штабс-капитана Штейна и убил его, а затем в контр-адмирала Писаревского, ранив его. Петрова схватили, но матросы тут же силой освободили его, а дежурных офицеров арестовали до утра.
Вскоре к восставшим матросам флотской дивизии присоединились не только солдаты Брестского полка, крепостной артиллерии, крепостная саперная рота, но и забывшие свой долг матросы дежурной роты броненосца «Синоп», посланные Чухниным против восставших. В тот же день Чухнину пришлось послать Николаю II тревожную телеграмму со словами: «Матросы, вероятно, поставят какие-нибудь условия, которым придется подчиниться или распустить флот». Он угадал; на следующий день состоялось первое заседание Севастопольского Совета, выставившего требования: созыв Учредительного собрания, установление 8-часового рабочего дня, освобождение политических заключенных, отмена смертной казни, снятие военного положения, уменьшение срока военной службы.
Трудно сказать, как отреагировала бы власть, но нетерпение бунтарей оказалось слишком велико, и 13 ноября на крейсере «Очаков» началось вялотекущее поначалу восстание – с изгнания с судна офицеров и кондукторов. Верховодили агитаторы, члены РСДРП кондуктор С.П. Частник, матросы Н.Г. Антоненко и А.И. Гладков (все расстреляны в 1906), Чураев и Декунин. А на другой день на крейсер явился экзальтированный лейтенант П.П. Шмидт (эпилептик и психопат, лечившийся в 1899 году в психиатрической лечебнице), переодевшийся в форму капитана II ранга. Шмидт объявил себя командующим флотом. Его репутация социалиста и противника монархии была известна в городе, и матросы отозвались дружным «Ура!» на его призыв, послуживший последним толчком к бунту. К «Очакову» присоединились канлодка «Уралец», миноносцы «Заветный» и «Зоркий», контр-миноносец «Свирепый», учебный корабль «Днестр» и минный транспорт «Буг», поднявшие красные флаги.
Однако восставшие переоценили свои силы, а адмирал Чухнин не растерялся, проявил лучшие офицерские качества и, сумев организовать верные присяге силы, уже 15 ноября предъявил бунтовщикам ультиматум о сдаче. Одновременно в Севастополь вошел известный своей решительностью генерал А.Н. Меллер-Закомельский, который быстро покончил там с мятежом. Сдаваться бунтовщики отказались и были расстреляны из дальнобойных береговых пушек и из орудий окруживших «Очаков» судов, сохранивших верность царю.
Такова историческая канва, по которой творил свою словесную вышивку Куприн.
Остается только добавить маленькую деталь. В 1915 году сын бунтовщика, молодой юнкер Е.П. Шмидт, «добровольцем ушел на фронт и геройски воевал “За Веру, Царя и Отечество”. В 1917 году он категорически не принял Октябрьский переворот и ушел в Белую армию. Прошел весь ее путь от Добровольческой армии до крымской эпопеи барона Врангеля. В 1921 году пароход увез Евгения Шмидта за границу от севастопольской пристани, с тех мест, где в 1905 году его отец помогал тем, кто сейчас поработил его Родину и гнал его самого на чужбину. “За что ты погиб, отец? – спрашивал его в изданной за границей книге Евгений Шмидт. – Неужели для того, чтобы твой сын увидел, как рушатся устои тысячелетнего государства, расшатанные подлыми руками наемных убийц, растлителей своего народа?”»[4].
* * *
Путем прозрения суждено было пройти и писателю Куприну. Правда, не сразу и не до конца. Во всяком случае, в 1905 году он еще всем сердцем был на стороне восставших и стоял за них горой.
В примечаниях к пятому тому известного советского шеститомника Куприна автор комментариев Э. Ротштейн так рассказал о предыстории сюжета «Гусеницы»:
«В 1905 году Куприн, живший в Балаклаве, был свидетелем описываемых в рассказе событий. 15 ноября 1905 года на его глазах орудия севастопольской крепости открыли огонь по восставшему крейсеру “Очаков”, вызвав на корабле большой пожар, угрожавший взрывом пороховых погребов. Куприн видел, как царские каратели расстреливали из пулеметов и прикалывали штыками матросов, пытавшихся спастись с горящего судна на шлюпках или вплавь. Все это описано им в корреспонденции “События в Севастополе”, напечатанной 1 декабря 1905 года в петербургской газете “Наша жизнь”. Знакомый Куприна по Балаклаве врач Е.М. Аспиз вспоминает, что писатель был глубоко потрясен всем виденным и пережитым в Севастополе.
“Мы сообщили ему, – пишет Е.М. Аспиз, – что у нас находятся спасшиеся матросы и повели его к ним. Я не могу найти слов для описания сцены, как он приветствовал их, жал руки, говорил что-то ободряющее, значительное, сердечное…”»[5].
Как следует из комментария, Куприн лично помог договориться с владельцем имения, чтобы спрятать матросов у него на виноградных плантациях, а затем «сам повел матросов степью и благополучно доставил их в условленное место… Многие фактические подробности этого эпизода переданы в рассказе совершенно точно»[6].
Газетная корреспонденция в «Нашей жизни» была написана Куприным по горячим следам событий в ноябре 1905 года, в разгар первой революции, когда уже был издан царский манифест, гарантировавший свободу слова, в Петербурге еще действовал Совет рабочих депутатов, руководивший всероссийской стачкой, а в Москве вот-вот должно было полыхнуть вооруженное восстание. В таких обстоятельствах купринская публикация должна была подействовать, как выплеск бензина на горящем пожаре. В ней говорилось, в частности:
«Ночь 15 ноября. Не буду говорить о подробностях, предшествовавших тому костру из человеческого мяса, которым адмирал Чухнин увековечил свое имя во всемирной истории. Они известны из газет; вкратце: матросский митинг, выстрелы в Писаревского[7] и одного пехотного офицера, отложение экипажей от армии, присяга и измена брестцев, – Шмидт поднимает на “Очакове” сигнал: “Командую Черноморским флотом”, великолепно-безукоризненное поведение матросов по отношению к жителям Севастополя и, наконец, первые предательские выстрелы с батарей в баржу, подходившую к “Очакову” с провиантом…
Адмирал Чухнин хотел показать всему городу пример жестокой расправы с бунтовщиками. Это тот самый адмирал Чухнин, который некогда входил в иностранные порты с повешенными матросами, болтавшимися на ноке…
С Приморского бульвара вид на узкую и длинную бухту, обнесенную каменным парапетом. Посредине бухты огромный костер, от которого слепнут глаза и вода кажется черной, как чернила. Три четверти крейсера – сплошное пламя. Остается целым только кусочек корабельного носа, и в него уперлись неподвижно лучами своих прожекторов “Ростислав”, “Три Святителя”, “XII Апостолов”. Когда пламя пожара вспыхивает ярче, мы видим, как на бронированной башне крейсера, на круглом высоком балкончике, вдруг выделяются маленькие черные человеческие фигуры…
Я должен говорить о себе. Мне приходилось в моей жизни видеть ужасные, потрясающие, отвратительные события. Некоторые из них я могу припомнить лишь с трудом. Но никогда, вероятно, до самой смерти не забуду я этой черной воды и этого громадного полыхающего здания, этого последнего слова техники, осужденного вместе с сотнями человеческих жизней на смерть сумасбродной волей одного человека…
На Графской пристани, где обыкновенно сосредоточены несколько сотен частных и общественных яликов, стояли матросы, сборная команда с “Ростислава”, “Трех Святителей”, “XII Апостолов” – надежный сброд. На просьбу дать ялики для спасения людей, которым грозили огонь и вода, они отвечали гнусными ругательствами; начали стрелять. Им заранее приказано было прекратить всякую попытку к спасению бунтовщиков…
А крейсер беззвучно горел, бросая кровавые пятна на черную воду. Больше криков уже не было, хотя мы еще видели людей на носу и на башне. Тут в толпе многое узналось. О том, что в начале пожара предлагали “Очакову” шлюпки, но что матросы отказались. О том, что по катеру с ранеными, отвалившему от “Очакова”, стреляли картечью. Что бросавшихся вплавь расстреливали пулеметами. Что людей, карабкавшихся на берег, солдаты приканчивали штыками. Последнему я не верю: солдаты были слишком потрясены, чтобы сделать и эту подлость.
Опять лопается броневая обшивка. Больше не слышно криков. Душит бессильная злоба; сознание беспомощности, неудовлетворенная, невозможная месть. Мы уезжаем. Крейсер горит до утра»[8].
После выхода данного весьма эмоционального, гневного, хлесткого журналистского репортажа Куприн был выслан в 24 часа из Севастопольского губернаторства приказом адмирала Чухнина, который добавил к этому жалобу в прокуратуру на оскорбившего и оклеветавшего его писателя. Если называть вещи своими именами, то Куприн ошельмовал честного и преданного делу, заслуженного офицера, сохранившего верность присяге и имевшего силу воли, чтобы исполнить свой долг и подавить бунт против царя и государства, которым он присягал[9]. И не просто ошельмовал, а еще и превратил его в мишень для всех, кто сочувствовал революции, а таких, увы, тогда было немало.
В результате Куприна привлекли к ответственности за данную статью, ибо она была «от начала до конца направлена к несправедливому опорочению должностного лица». Дело было перенесено в Петербургский суд. Однако прений сторон свет не дождался, и дело решилось не в суде.
27 января 1906 года эсерка Е.А. Измайлович, явившись к Чухнину на прием под видом просительницы, выстрелила ему в плечо и в живот. Адмирал остался жив и вылечился, но 28 июня того же года он все же был застрелен на собственной даче в Севастополе. Убийство было организовано знаменитым террористом Б.В. Савинковым, а ответственность за это преступление взял на себя бывший матрос Черноморского флота Я.С. Акимов (он признался в этом в 1925 году в журнале «Каторга и Ссылка» № 5). Хотя в книжечке Михаила Лезинского «Севастополь литературный» утверждается, что под именем «матроса Акимова» скрывался человек, известный впоследствии как советский писатель на морские темы Никандров (псевдоним Н.Н. Шевцова)[10].
В связи со смертью адмирала судебное преследование Куприна не остановилось, но наказание писатель, по сути, науськавший убийц на адмирала, получил смехотворное: десять суток домашнего ареста, и то уже только в 1909 году[11]. Легко отделался.
В 1905 году купринская газетная корреспонденция произвела в публике настолько широкое и сильное, возмущающее умы впечатление, что фрондирующее издательство «Шиповник» решило, что она должна быть перепечатана в «Историко-революционном альманахе». Но книга вышла в ноябре 1907 года, когда революция уже исчерпала себя, и осмелевшая цензура эту книгу арестовала.
Куприн, однако, не успокоился. Он и впрямь не мог позабыть событие, которому стал свидетелем в Севастополе. Поэтому писатель не остановился на данной корреспонденции, ему показалось мало, он рвался высказаться до конца. Ему хотелось извлечь из описанного эпизода первой «русской» революции нечто большее, назидательное и поучительное, подвести нравственный итог. На этот раз он решил прибегнуть к литературной форме рассказа, более близкой ему как писателю, – и написал свою «Гусеницу».
Вполне понятно, что пока действовала царская цензура, такой рассказ не мог быть напечатан. Но вот в результате Февральской революции 1917 года все цензурные препоны пали: 16 мая в «Вестнике Временного правительства» было обнародовано законодательное распоряжение: «Печать и торговля произведениями печати свободны. Применительно к ним административных взысканий не допускается». Хотя при этом с июля того же года военный министр получил право закрывать издания, призывающие к военному бунту и неповиновению на фронте. Возможно, Куприну показалось, что тема рассказа может быть трактована именно так, и он удержал свое перо. Но тут вскоре разразилась Октябрьская революция. Большевики немедленно закрыли свыше 400 «буржуазных» газет, якобы клеветавших на советскую власть. Однако при этом любая критика в адрес бывшей царской власти, наоборот, приветствовалась по-прежнему. И Куприн поспешил воспользоваться ситуацией и опубликовал историю, глубоко, как видно, запавшую ему в душу тринадцать лет тому назад и крепко запомнившуюся, породившую важные размышления. Рассказ «Гусеница» вышел в марте 1918 года.
К этому времени разгон Учредительного собрания 6 (19) января и его роспуск 18 (31) января уже состоялись, власть захватила коалиция большевиков и левых эсеров, сложились основные предпосылки Гражданской войны и Советской власти. В данных условиях рассказ Куприна «Гусеница» послужил громким отзвуком былой революционной борьбы и оправданием всех «русских» революций, начиная с 1905 года.
* * *
Куприн – писатель исключительной честности, страстный, откровенный, смелый, негнущийся. В той старой, дореволюционной России, где процвел его талант и сам он стал успешен и знаменит, он не раз выступал с позиций, близких к революционным. И честно потом признавался в этом в эмиграции:
«Я шел часто поперек старому царственному режиму, хотя с брезгливостью сторонился всяких партий. Моим душевным инстинктом всегда было стремление идти против большинства и силы, которые оба мне всегда представлялись неправыми. Судьба дала мне возможность видеть очень многое в течение моей пестрой жизни: артистов, рыбаков, плотников, мужиков, ямщиков, босяков, монахов и так далее без конца. Но моими общениями всегда руководила любовь к каждому отдельному человеку и еще большая любовь к моей чудесной родине. Я ссорился с русским правительством только потому, что в корне своем оно было здорово и мощно. И я отвечал за свои дерзкие слова, по крайней мере, своею личной свободой, если не собственной жизнью». Свое тогдашнее поведение Куприн расценивал как «в сущности, невинное будирование», которое немедленно прекратилось, когда началась война с Германией[12].
Случилось так, однако, что Куприн, немало-таки пофрондировавший против царизма до Февраля 1917 года, не принял Октябрь и в Гражданской войне весьма скоро встал на сторону белых, побывав перед тем у большевиков под арестом и на допросах. После ликвидации комиссара по делам печати В. Володарского он даже был взят чекистами в заложники. По свидетельству редактора гельсингфорсской газеты «Новая русская жизнь» Ю.А. Григоркова, опубликованному в 1920 году со слов самого Куприна, писатель на допросе дал понять следователю о своем неуважении к Советской власти и едва не был расстрелян.
Былая репутация видного писателя и общественного деятеля, не раз выступавшего против царского режима с решительной критикой, отнюдь не спасала его от эксцессов «диктатуры пролетариата». Да он и не прикрывался ею, не лицемерил с новой властью. Пришло время – и Куприну, как и многим его современникам и соплеменникам, стало необходимо пересмотреть и переоценить недавнее прошлое.
В статье 1919 года, посвященной В.И. Ленину, он напишет: «В страшные времена Иоанна Грозного русскому народу легче жилось и дышалось, нежели в Советской России в неистовые времена Владимира Ленина»[13]. В мае 1921 года он признавался в частном письме: «Считая моими последовательными этапами Гатчину, Ямбург, Нарву, Ревель, я твердо убедился, что чем глубже тыл, тем жить в нем оскорбительнее, тяжелее, гаже, непереносимее» [14]. Это сказано о том времени, когда Германская война плавно сменилась Гражданской. Для Куприна они слились в одно: в битву за Россию, за Родину. В этой битве он не остался в стороне и выбрал свой фронт без колебаний.
В октябре 1919 года, когда белые вошли в Гатчину, где он проживал, Куприн нашел себе место в Северо-Западной армии генерала Юденича как офицер запаса, поручик, и официальный редактор армейской газеты «Приневский край». И вскоре, уже в ноябре 1919 года, он вместе с армией откатился до Ревеля, повсюду возя за собой допотопный печатный станок, колеса которого надо было вертеть вручную. А затем вновь оказался в Финляндии, в Гельсингфорсе. В финской столице состоялось его второе рождение уже как крупнейшего публициста яркой антисоветской направленности, какого только знала история нашей эмиграции. Только за первые шесть месяцев им было написано свыше семидесяти статей и рассказов на злобу дня, и там же в 1920 году вышел первый сборник его эмигрантских рассказов.
В июне этого года Куприн покинул Финляндию и, заехав на пару дней в Англию, осел с семьей в Париже, где немедленно продолжил пером свою войну с большевиками – одной из первых парижских публикаций стала статья-разоблачение «Русские коммунисты». Свое политическое кредо писатель коротко, но ясно (и не в первый раз) выразит в 1926 году в «Русской газете»: «печатная борьба с большевизмом, борьба прямая и открытая, без заигрывания, уверток и задних лазеек на всякий грядущий случай» («Три года»). Куприн до конца 1920-х годов, пока силы не стали ему изменять, несомненно, относился к числу наиболее непримиримых, принципиальных врагов Советской власти. Увидев, что именно пришло на смену старому, царскому режиму, он ужаснулся и содрогнулся от отвращения. И снова, как когда-то, пошел «против большинства и силы».
При этом, в отличие, скажем, от Зинаиды Гиппиус, собравшей свой «Союз непримиримых», он никогда не выказывал преданности идеалам Февраля, не выражал ностальгии по дооктябрьскому революционному прошлому России, а напротив, открыто заявлял о себе как стороннике монархии и апологете свергнутой царской династии Романовых[15]. Поддерживал партию великого князя Николая Николаевича среди эмигрантов. Одновременно вел регулярную принципиальную полемику с газетами, выпускавшимися бывшими инициаторами и лидерами Февраля, руководителями Временного правительства А.Ф. Керенским и П.Н. Милюковым.
Вот какой метаморфозис довелось пережить этому внутренне очень честному человеку и писателю. Многие свои прежние взгляды пришлось ему радикально пересмотреть под воздействием впечатлений, щедро предоставляемых большевиками и вообще революционерами после падения трона.
Ниже приведено несколько письменных оценок, данных в публикациях Куприна насчет «Совдепии» (словечко придумано и пущено в ход им самим):
– «А за фасадом – вонючая ночлежка, где играют на человеческую жизнь – мечеными картами – убийцы, воры и сутенеры, а под нарами, в струпьях и вшах, больная, истерзанная Россия мечется в горячечном кошмаре» («Их строительство», 1920)[16].
– «Тридцать миллионов (не считая войны с Германией) русских жизней, погибших во имя утопической теории на войне, под расстрелами и пытками, от голода, мороза и повальных эпидемий. Разрушенные, загаженные города. Оподление, мрак, отчаяние… Вся страна обращена в дикое, гиблое место, и нужны многие десятки лет, чтобы возобновить в ней хотя бы подобие даже прежней культуры» («Маски», 1920)[17].
– «Вот уже почти восемь лет, как большевики объявили себя правительством России, и в течение этих восьми лет они явили пропасть доказательств, что они – самые ядовитые враги России, злейшие, чем некогда половцы и татары» («Славный урок», 1926)[18].
* * *
К Куприну как газетчику, публицисту, фельетонисту со всех сторон стекались разные сведения и о революции, и о гражданской войне, и о советской власти. В том числе о событиях в двух точках на земном шаре, с которыми его крепко связала судьба: в Крыму (в частности, в Севастополе) и в Гельсингфорсе. Куприн всегда любил море, любил и уважал людей, с морем связанных – рыбаков, матросов. Думается, что то сочувствие, с которым он писал о событиях вокруг восстания на «Очакове», было связано и с этим его особым отношением к морякам.
Революции 1917 года показали, однако, эту социальную группу с новой, ранее неведомой Куприну стороны. Матросы были весьма особой категорией, заметно выделявшейся среди революционных масс. Их выразительный образ навсегда запечатлен на многих страницах художественной и мемуарной литературы, в картинах и скульптурах. Например, на известном полотне-автопортрете «Братишка» Федора Богородского или в стихотворении «Сейчас» Зинаиды Гиппиус, написанном 9 ноября 1917 года:
Как скользки улицы отвратные,
Какая стыдь!
Как в эти дни невероятные
Позорно жить!
Лежим, заплеваны и связаны
По всем углам.
Плевки матросские размазаны
У нас по лбам…
Но все художественные образы бледнеют перед реальными картинами, которые донесла до нас история, бесстрастно фиксирующая революционные подвиги русских матросов, особенно Черноморского и Балтийского флотов.
Все пошло с Гельсингфорса в самом начале Февральской революции. Для иллюстрации того, что там творилось, я приведу несколько отрывков из знаменитой книги Гаральда Карловича Графа «На “Новике”», вышедшей в свет в 1922 г. в Мюнхене и запрещенной в Советской России вплоть до 1991 года. Это объективное свидетельство очевидца, участника событий.
«К концу февраля внутреннее политическое положение России стало сильно обостряться. Из Петрограда стали доходить чрезвычайно тревожные слухи. Они говорили о каком-то перевороте, об отречении государя и об образовании Временного правительства…
Около 2 часов ночи, на 4 марта, в полном порядке и не использовав ни одного патрона, вернулась с берега команда, ходившая на митинг. Сейчас же был убран часовой, соединен телефон и все легли спать.
Через некоторое время из госпиталя по телефону позвонил один наш больной офицер и передал, что к ним то и дело приносят тяжелораненых и страшно изуродованные трупы офицеров.
После всех этих событий, наконец, попробовали лечь спать и мы, офицеры, но с тяжелым, неприятным чувством, что произошла какая-то ужасная, непоправимая катастрофа.
Все в слезах, в чем только попало, несчастные женщины бегут туда, в госпиталь, в мертвецкую... Все-таки где-то там, в тайниках души, у них теплится маленькая надежда, что, быть может, это – не он, это – ошибка...
Вот, они – в мертвецкой. Боже, какой ужас!.. Сколько истерзанных трупов!.. Они все брошены кое-как, прямо на пол, свалены в одну общую ужасную груду. Все – знакомые лица... Безучастно глядят остекленевшие глаза покойников. Им теперь все безразлично, они уже далеки душой от пережитых мук...
Близится день. Улицы полны шумом, криками, стрельбой. Над Гельсингфорсом встает багровое солнце, солнце крови. Проклятая ночь! Проклятое утро!..
В 3 часа дня разнеслась весть, что в 1 час 20 минут в воротах Свеаборгского порта предательски, в спину, убит шедший на Вокзальную площадь командующий флотом вице-адмирал А.И. Непенин…
Во время переговоров по телефону с офицерами в каземат вошел матрос с “Павла I” и наглым тоном спросил: “Что, покончили с офицерами, всех перебили? Медлить нельзя”. Но ему ответили очень грубо: “Мы сами знаем, что нам делать”, – и негодяй, со сконфуженной рожей, быстро исчез из каземата…
Сюда же был приведен тяжелораненый мичман Т.Т. Воробьев. Его посадили на стул, и он на все обращенные к нему вопросы только бессмысленно смеялся. Несчастный мальчик за эти два часа совершенно потерял рассудок. Я попросил младшего врача отвести его в лазарет. Двое матросов вызвались довести и, взяв его под руки, вместе с доктором ушли. Как оказалось после, они по дороге убили его на глазах у этого врача…
Время шло, но на корабле все еще было неспокойно, и банда убийц продолжала свое дело. Мы слышали выстрелы и предсмертные крики новых жертв. Это продолжалась охота на кондукторов и унтер-офицеров, которые попрятались по кораблю. Ужасно было то, что я решительно ничего не мог предпринять в их защиту…
На следующее утро команда выбирала судовой комитет, в который, конечно, вошли все наибольшие мерзавцы и крикуны. Одновременно был составлен и суд, которому было поручено судить всех офицеров. Он не замедлил оправдать оказанное ему доверие и скоро вынес приговор, по которому пять офицеров были приговорены к расстрелу, в том числе и младший доктор: очевидно, только за то, что был свидетелем гнусного убийства раненого мичмана Воробьева…
Так прошел переворот на флоте, на берегу же убийства офицеров происходили в обстановке, еще более ужасной.
Их убивали при встрече на улице или врываясь в их квартиры и места службы, бесчеловечно издеваясь над ними в последние минуты. Но и этим не довольствовалась толпа зверей-убийц: она уродовала и трупы и не подпускала к ним несчастных близких, свидетелей этих ужасов…
Последующие дни прошли спокойно, и убийства офицеров в Гельсингфорсе почти прекратились, а если и были, то только отдельные случаи. Но что сделано – того не вернешь, и “бескровный” переворот в Гельсингфорсе стоил жизни тридцати восьми морским офицерам, не считая сухопутных. Большинство из них погибло от рук таинственных убийц в форме матросов и солдат, но были павшие и от рук своей собственной команды...
Только значительно позже, совершенно случайно, один из видных большевицких деятелей присяжный поверенный еврей Шпицберг в разговоре с несколькими морскими офицерами, пролил свет на эту драму.
Он совершенно откровенно заявил, что убийства были организованы большевиками во имя революции. Они принуждены были прибегнуть к этому, так как не оправдались их расчеты на то, что из-за тяжелых условий жизни, режима и поведения офицеров переворот автоматически вызовет резню офицеров»[19].
Примерно то же происходило в мартовские дни 1917 года в Кронштадте, где подняли бунт матросы, зверски растерзавшие военного губернатора адмирала Р.Н. Вирена, убившие начальника штаба порта контр-адмирала А.Г. Бутакова, командира 1-го Балтийского флотского экипажа генерал-майора Н.В. Стронского и многих других офицеров (всего более сорока человек).
* * *
А теперь о том, как отличились революционные матросики в Крыму, где в далеком 1905 году самоотверженная русская женщина Ирина Платоновна, «Гусеница», и прекраснодушный писатель Александр Куприн по доброте сердечной спасали чудом утекших со взбунтовавшегося «Очакова» военморов. Об этом стоит сказать подробнее.
Историк Дмитрий Соколов в книге «Без срока давности. Большевистский террор в Крыму в 1917-1921 гг.» свидетельствует:
В условиях оголтелой пропаганды, которую вели большевистские эмиссары и специально прибывшие матросы Балтфлота, «офицерские кадры ЧФ были фактически обречены на расправу. Морально унижаемые в предыдущие месяцы (и, кстати, массово разоруженные. – А.С.), начиная с декабря 1917 г. офицеры Черноморского флота стали уничтожаться физически.
Первой жертвой надвигающегося террора стал мичман Николай Скородинский. 13 декабря он был застрелен на миноносце “Фидониси”…
Эти события стали прологом к страшной трагедии, разыгравшейся в ночь с 15 на 16 декабря 1917 г. … По указанию комиссара Черноморского флота В. Роменца на эсминце “Гаджибей” команда арестовала 6 офицеров и решила поместить их в тюрьму. Но, так как там отказались принять арестованных “за отсутствием указаний”, офицеров привели на Малахов курган и расстреляли. Этой же ночью арестовали и казнили десятки других офицеров. Среди убитых были начальник штаба Черноморского флота контр-адмирал Митрофан Каськов; главный командир Севастопольского порта, начальник дивизии минных кораблей вице-адмирал Павел Новицкий; председатель военно-морского суда генерал-лейтенант Юлий Кетриц. Всего на Малаховом кургане 15-16 декабря 1917 г. были расстрелены 32… офицера…
Город погрузился в пучину самосудов и жестоких погромов. Объявленных “контрреволюционерами” жителей города убивали на улицах и частных квартирах, используя для розыска адресные книги и телефонные справочники. Особенно жуткие сцены разыгрывались на улицах Городского холма – Чесменской (ныне – ул. Советская) и Соборной (ныне – ул. Суворова), где было много офицерских квартир, и на вокзале.
Как вспоминал Н. Кришевский (сам чудом избежавший расправы), “вся небольшая вокзальная площадь была сплошь усеяна толпой матросов, которые особенно сгрудились правее входа. Там слышались беспрерывные выстрелы, дикая ругань потрясала воздух, мелькали кулаки, штыки, приклады… Кто-то кричал “пощадите, братцы, голубчики”… кто-то хрипел, кого-то били, по сторонам валялись трупы – словом, картина, освещенная вокзальнами фонарями, была ужасна”…
Ночь на 17 декабря выдалась столь же тревожной. По-прежнему производились аресты и обыски среди офицеров, у которых изымалось оружие. Как и в предыдущую ночь, участь большинства арестованных была незавидной: жертвами самосудов стали еще 30 офицеров.
Таким образом, в декабре 1917 г. Севастополь стал первым городом, открывшим в Крыму мрачную страницу террора. Именно здесь, задолго до придания массовым убийствам “врагов революции” официального статуса, были замучены десятки людей. Тем самым был подан своеобразный “пример” другим регионам бывшей Российской империи, задан тон дальнейшей эскалации жестокости и садизма…
Так в Севастополе впервые установилась “народная, рабоче-крестьянская власть”…
Всего, по данным Н. Кришевского, во время декабрьских событий 1917 г. в Севастополе погибло 128 офицеров, а по сведениям, приводимым советским автором Г. Тарпаном, в декабре 1917 г. в Севастополе “в течение двух-трех суток матросы убили несколько сот офицеров“…
Революционные матросы стали самой надежной опорой режима, в дальнейшем сыграв ведущую роль в первой попытке “советизации” Крыма. По признанию Ю. Гавена[20], именно черноморцы вынесли на своих плечах “всю тяжесть вооруженной борьбы с контрреволюцией”. “Главной общественной силой, которая определяла ход событий в Севастополе, – годы спустя писал большевик Урановский, – были матросы. Не рабочие местной формации, в большинстве случаев связанные с собственностью и демократическими предрассудками, не иные общественные прослоения, а именно широкие матросские массы, буйные, удалые, воспитанные рокотом бурь, озлобленные долголетней муштрой и гавканьем против всего, что может напомнить старый строй”»[21].
На особом месте стоит трагедия, разыгравшаяся в январе 1918 года в Евпатории.
«Вечером 14 января к городу подошли военные корабли Черноморского флота – гидрокрейсер “Румыния”, транспорт ”Трувор”, буксиры ”Геркулес” и ”Данай”. На следующее утро ”Румыния” в течение сорока минут обстреливала город из шестидюймовых орудий, а затем на берег высадился десант в количестве до 1500 матросов и вооруженных рабочих. К прибывшим тотчас присоединились местные ”пролетарии”, и к 10 часам утра город был полностью захвачен большевиками.
Первые три дня в городе шли нескончаемые обыски и аресты. В поисках оружия матросы вламывались в дома и выносили оттуда все ценное. Арестовывали дворян, офицеров, чиновников и тех, на кого указывали как на контрреволюционеров. Сопротивлявшихся убивали на месте. За 3 дня было арестовано свыше 800 человек…
Евпаторийский рейд стал местом массовых жестоких казней. Всего за три дня – 15, 16 и 17 января 1918 г. – большевики убили не менее 300 человек…
Кровавая расправа происходила на гидрокрейсере “Румыния” и транспорте “Трувор”. На “Румынии” “лиц, приговоренных к расстрелу, выводили на верхнюю палубу и там, после издевательств, пристреливали, а затем бросали за борт в воду. Бросали массами и живых, но в этом случае жертве отводили назад руки и связывали их веревками у локтей и кистей, помимо этого связывали и ноги в нескольких местах… К ногам привязывались колосники”.
По свидетельству Н. Кришевского, “все арестованные офицеры (всего 46 человек) были выстроены по борту транспорта и один из матросов ногой сбрасывал их в море, где они утонули. Эта зверская расправа была видна с берега, там стояли родственники, дети, жены… Все это плакало, кричало, молило, но матросы только смеялись… Ужаснее всех погиб штаб-ротмистр Новицкий… Его, уже сильно раненого, привели в чувство, перевязали и тогда бросили в топку транспорта “Румыния”.
На берегу находилась жена Новицкого и его 12-летний сын, которому обезумевшая от горя женщина руками закрывала глаза, а он дико выл…
Председательствовавший на заседаниях [ревтрибунала] матрос Федосеенко любил повторять: “Все с чина подпоручика до полковника – будут уничтожены”.
Один из большевистских палачей, член Севастопольского ВРК, матрос Сергей Куликов, говорил на одном из митингов, что “собственноручно бросил в море за борт 60 человек”…
Всего зимой 1918 г. в Евпатории, этом относительно небольшом курортном городке, было репрессировано около 1 тыс. жителей…
Не менее драматично происходило установление советской власти в Ялте… После прекращения боевых действий и перехода власти в руки большевиков ужас вооруженного противоборства сменился кошмаром террора… Схваченных офицеров доставляли на стоявшие в порту миноносцы, допрашивали, затем выводили на мол и расстреливали… Живший в то время в Крыму известный политик и общественный деятель, князь Владимир Оболенский приводит в своих воспоминаниях следующие подробности совершаемых большевиками кровавых расправ:
“…В Ялте офицерам привязывали тяжести к ногам и сбрасывали в море, некоторых после расстрела, а некоторых живыми. Когда, после прихода немцев, водолазы принялись за вытаскивание трупов из воды, они на дне моря оказались среди стоявших во весь рост уже разлагавшихся мертвецов…”
Не всех арестованных доставляли на миноносцы. Некоторых красногвардейцы и матросы убивали прямо на улицах, на глазах у горожан, и тут же грабили трупы…
Всего в результате террора [в Ялте] погибло более 200 человек, в том числе 2 сестры милосердия…
Всего в Феодосии было расстреляно более 60 человек…
Всего, по данным советского автора Виктора Баранченко, в административном центре губернии [Симферополе] “было убито не менее семисот офицеров”.
Аналогичную цифру – 700 человек – называет и один из активных участников установления советской власти в Крыму, член севастопольской большевистской партийной организации Алексей Платонов»[22].
Относительно событий в Евпатории хотелось бы добавить несколько выразительных штрихов. Их описание базируется на таком достоверном и синхронном событиям источнике, как отчет, представленный деникинской «Особой комисией по расследованию злодеяний большевиков», читая который, невольно обращаешь внимание на детали, опущенные Соколовым:
«Казни происходили и на транспорте “Трувор”… Вызванного под конвоем проводили через всю палубу мимо целого ряда вооруженных красноармейцев и вели на так называемое “лобное место” (место казни). Тут жертву окружали со всех сторон вооруженные матросы, снимали с жертвы верхнее платье, связывали веревками руки и ноги и в одном нижнем белье укладывали на палубу, а затем отрезывали уши, нос, губы, половой член, а иногда и руки, и в таком виде жертву бросали в воду. После этого палубу смывали водой и таким образом удаляли следы крови. Казни продолжались целую ночь, и на каждую казнь уходило 15-20 минут. Во время казней с палубы в трюм доносились неистовые крики, и для того, чтобы их заглушить, транспорт “Трувор” пускал в ход машины…»[23].
А вот что ко всему сказанному добавляет научный труд историка В.И. Королева «Таврическая губерния в революциях 1917 года».
2 января 1918 года большевики «совершают революционный переворот и захватывают власть в городе [Симферополе]… Большевики формируют революционный комитет… Центрофлот также преизбран, и в его составе укрепились леворадикалы. Печать сообщала, что в этих вооруженных конфликтах участвовали не только революционные матросы, а “преимущественно темные массы”, анархисты. Более 60 человек (главным образом офицеров) были казнены и 200 противников Советской власти арестованы. Эти события стали началом красного террора в губернии»[24].
А далее события покатились одно за другим в известную сторону.
«В ночь на 14 января ленинцы провели собрание рабочих аэропланового завода Анатра, на котором разработали план “революционного переворота” и избрали ревком… Начались повальные аресты “контрреволюционных элементов”. Офицеров расстреливали на месте… К вечеру того же дня красногвардейские отряды… у Карасубазара взяли в плен 50 офицеров Крымского штаба и тут же расстреляли».
В феврале в Севастополе «… делегаты обратились ко всем черноморцам более решительно и беспощадно бороться за диктатуру пролетариата… В… нагнетаемой большевиками атмосфере среди матросов корабля “Борец за свободу” родилась идея: “Совету угрожает опасность со стороны буржуазии и надо защищать Совет”. Эти настроения быстро подхватили команды других судов. На Каменной пристани собралось 2,5-3 тыс. матросов. Когда они обратились в Совет, там ответили: “Вырезать буржуазию – не воля Совета”. Тогда моряки заявили: “Не хотите – не надо. Мы сами это сделаем, а вас больше знать не хотим”. 21-23 февраля по городу прокатилась волна убийств, разбоев и насилий. Матросы расстреляли 60 политических заключенных в тюрьме. Самосуды производились на улицах, в квартирах, на Малаховом кургане. Награбленное делилось тут же. В эти “варфоломеевские ночи” было убито 400 человек»[25].
Здесь приведены данные о терроре, творимом большевиками, опиравшимися, главным образом, на матросский контингент, лишь в самом начале революции, не касаясь той кровавой вакханалии, которую они развернули после падения белого Крыма в 1920 году. Однако, мне кажется, и эти данные достаточно показательны и характерны – как в отношении большевиков вообще, так и в отношении матросов в особенности.
* * *
Сегодня, когда смотришь на события 1917-1918 гг. с дистанции в сто лет, они кажутся невозможными, немыслимыми по своей дикой, запредельной бесчеловечности. Но все это было в действительности. Революция предстает в беспощадном свете истории как абсолютное зло, которому нет и не может быть никакого оправдания. Семьдесят лет нас учили обратному; сейчас вообще не учат ничему, наука история в обвале. Но мы должны знать свое прошлое, если хотим остаться русскими людьми. И даже просто людьми.
Спустя век, мы наконец-то с трудом осознаем очевидное. В 1917 году самодержавие царей сменилось самовластием восставших масс, тысячекратно, неизмеримо более губительным и страшным. В авангарде этих масс шли моряки-балтийцы, моряки-черноморцы, отличаясь особой жестокостью, буйством и зверством.
Кто-то может злорадно сказать по поводу этого разгула бесчеловечного разудалого вурдалачества: мол, вот и отлились кошке мышкины слезки! Ведь разгул исходил, вполне вероятно, в том числе и от тех самых матросиков, которых в 1905 году расстреливали из пушек на «Очакове», а потом отлавливали, как диких зверей, если кто чудом выплыл на берег. Или от их былых товарищей и сослуживцев, свидетелей и сочувствователей неудачного восстания и его разгрома…
Да только вряд ли эта логика убедит кого-нибудь. Ведь, во-первых, от революционного бесчинства гибли в большинстве своем ни в чем не повинные, честные люди, в первую очередь военнослужащие, безупречно служившие Родине, годами проливавшие свою кровь, рисковавшие жизнями, защищая Отечество. А во-вторых, все вышеописанные безобразия просто разыгрались бы на двенадцать лет раньше, если бы своевременно, в ходе подавления революции 1905-1907 гг., не были расстреляны крейсер «Очаков» и баррикады Пресни, не были отданы под суд восставшие моряки с броненосца «Потемкин», не оказались бы задавлены силами черносотенцев вооруженные бунты в примерно 600 городах и местечках Российской империи.
Напомню, если кто не знает, что от рук революционеров-террористов – народников, анархистов, бундовцев, эсеров, большевиков и т.д. – еще до Февраля 1917 года пало около 50 тыс. российских жителей: полицейских, чиновников, офицеров, да и просто обывателей, подвернувшихся под эсеровский обстрел или взрыв анархистской бомбы. Так что такая же вакханалия бессудных расправ, как обрисованная вышеназванными историками, покатилась бы по стране тотчас же, если бы бунтовщики победили не в 1917, а в 1905 году…
* * *
Куприн не закрывал глаза на подобные истории революционного зверства, о которых ему было известно немало и вполне достоверно – что-то рассказывали очевидцы, а что-то видел сам воочию. И он отчасти отразил их в своих статьях, где все вещи названы своими именами.
Вот он по относительно свежим следам создает в 1920 году фельетон о Февральской революции с саркастическим названием «Бескровная» (пародируя известный тезис Керенского о «великой бескровной»), где пишет в тоне беспристрастного свидетельства:
«Первые дни великой бескровной русской революции застали меня в Гельсингфорсе…
Наконец пришло известие об отречении царя и об условном, благородном отказе от власти великого князя Михаила…
Начались рядовые убийства. Был застрелен адмирал Непенин, талантливый флотоводец, энергичный администратор, заботливый начальник, человек прекрасных качеств. Застрелили на улице одного пехотного генерала: у него недавно пали со славою на войне три сына, а сам он был всегда и неизменно любим солдатами. Убили на улице мичмана, потребовавшего от матроса отдания чести. Убили одного скромного и дельного капитана, с которым я почти ежедневно встречался в помянутой семье. Правда, он был прирожденным, убежденным монархистом и никогда этого не скрывал. Жертвы «гнева народного» складывались в Николаевском госпитале, в морге…
Город утопал во флагах: красных с желтым – шведских, белых с синим – Suomi, а между ними пророчески алели красные флаги. У всех жителей появились в петличках красные розетки и ленточки…
Убийства сделались массовыми. Офицеров, живых, завязывали в мешки, прикрепляли к их ногам тяжесть и бросали в прорубь. Иногда же их собирали в кучу на корабельном баке и из брандспойтов поливали горячим паром. По трупам нельзя было потом признать людей: кожа и мясо совершенно слезали с лиц…»[26].
Кто все это делал? Не матросы ли творили эти несказанные зверства над своими же, русскими начальниками, честными служаками, боевыми товарищами, с которыми сами же плечом к плечу сражались против немцев более трех лет?
Спустя еще восемь лет купринские воспоминания об ужасах матросской вольницы по-прежнему свежи, а его оценки непримиримы. В статье «До обрыва» (1928) он делится ими с читателем:
«Еще не дошло до Гельсингфорса отречение императора, за день до него, матросские команды на военных кораблях уже бросают офицеров в топки, ошпаривают их кипятком из шлангов, кидают в море с привязанными к ногам колосниками. Отдельные матросы, вооруженные кольтами, маузерами и браунингами, рыщут по всему городу, вытаскивая офицеров из их береговых квартир, из семейных гнезд.
Это – первое рычание бескровной революции. Эхо от него разносится по всему российскому флоту. Выборг, Кронштадт, Севастополь подхватывают его. Корабли, набережные, стены домов обливаются офицерской кровью.
Армия, насквозь пропитанная разлагающей пропагандой, убивает своих офицеров и тает от дезертирства. В светлые дни Временного правительства ходят по улицам Петербурга развращенные, распоясанные, грязные, волосатые, сопливые солдаты или декольтированные матросы с челками и срезают у встречных офицеров погоны»[27].
Это написано через десять лет после рассказа «Гусеница». И почти через четверть века после корреспонденции «События в Севастополе», вышедшей в декабре 1905 года в газете «Наша жизнь». По историческим меркам срок небольшой – а какая разница в позиции писателя! Видно, что теперь он почему-то вовсе не на стороне бунтовщиков, революционных матросиков, как некогда был всей душой…
Куприн, несомненно, был хорошо осведомлен обо всем, что происходило как в Гельсингфорсе на его глазах, так и в Ревеле, Выборге, Кронштадте и Севастополе, о чем ему доложили устно и письменно многие очевидцы. А скорее всего, не остались для него безвестными и события в Архангельске, Холмогорах и Мурманске (вообще на Русском Севере) после ухода оттуда англичан и прихода красных карателей.
Куприн прожил после Февральской и Октябрьской революции 1917 года еще немало и умер в 1938 году, вернувшись годом ранее в Россию уже в совершенно руинированном состоянии, не всегда отдавая себе отчет в своих словах и поступках. К моменту его смерти ровно 20 лет прошло с того года, когда вышел из печати его рассказ «Гусеница» – настоящий гимн истинно русской женщине, антиправительственно настроенной и помогающей разгромленным матросам-бунтовщикам из простого человеколюбия, помноженного на традиционную интеллигентскую оппозиционность. А в более широком контексте (если учесть предисловие насчет фотоальбома) – гимн женщине-революционерке и даже террористке в юбке и с браунингом или бомбой в руке, готовой убивать и умирать по мотивам своеобразно понятого человеколюбия.
За эти годы, пока Куприн был еще во всей силе своего разума, он в полной мере узнал и оценил, что собой представляли матросы-бунтовщики в условиях, когда фортуна оказалась на их стороне. Он отлично разглядел и понял, чем окончилась для его любимой Родины революционная эпопея вообще и революционный террор в частности. А также пафосный революционный гуманизм. Никаких сомнений на сей счет у него не оставалось, и мы видели это на примере вышеприведенных цитат. Всей мощью своего писательского дара обрушился он с беспощадной критикой на творцов Февраля и Октября, на творцов Совдепии.
Но, как ни поразительно, за все эти послереволюционные годы он ни разу не обрушился с такой же честной, принципиальной критикой на самого себя, не принес покаяния ни за свои подстрекательские строки 1905 года, ни за свою пламенную апологетику по адресу революционерок, им героизированных… Он не попросил запоздало прощения у тени честного служаки-офицера, адмирала Чухнина, боровшегося против революции и убитого, кто знает, не под влиянием ли его талантливого и горячего печатного навета?.. Ничем этот большой писатель земли русской не искупил свой грех клеветы и поджигательства, и это по меньшей мере странно: как же совесть его не зазрила, не изгрызла, не сожгла изнутри?
Куприн наверняка понимал, не мог не понимать, что сам, подобно многим фрондирующим интеллигентам, внес немалую лепту в то адское варево, которое сварили в России революционеры – анархисты, террористы, боевики, эсеры, большевики и проч. Но, видать, не нашел в себе достаточно мужества, чтобы публично признать собственную вину и самому себя высечь, как та унтер-офицерская вдова… Самолюбие не позволило? Застеснялся? Или решил, что время все спишет?
Не списало…
* * *
Почему я, отложив более серьезные занятия, взялся за данный сюжет? Почему вдруг, перечитывая Куприна в больничной палате и случайно наткнувшись на рассказ «Гусеница», внезапно возмутился всей душой и почувствовал неодолимую потребность откликнуться на небольшой эпизод из всеми полузабытого далекого былого?
Потому что я вижу, что все повторяется у нас на Руси, и ничего не идет впрок моему родному русскому народу, не способному, как видно, извлекать уроки из собственного страшного опыта.
Снова лицезрим мы интеллигентскую либерально-демократическую фронду, новейшую генерацию носителей фиги в кармане, у которой ничего-то, кроме фиги, и нет на деле за душой. И снова наблюдаем мы когорту записных подстрекателей, экзальтированных ценителей бунта и гражданской войны, таких, как бывшие профессора Валерий Соловей и Андрей Зубов, наши профессиональные буревестники, или редакционный коллектив «Новой газеты», или телеканала «Дождь»*, или радио «Эхо Москвы», или отдельных «очень смелых» блогеров, телеведущих, публицистов.
Молодежь, не пережившая, не запечатлевшая в своей памяти ужас 1990-х годов, когда жизнь казалась безнадежно разрушенной, пропащей, постыдной, и не видно было выхода из пропасти, в которую внезапно все рухнуло, не боится крутых перемен. Нашу трагическую историю нынешние юноши и девушки не учили, не знают, уроков прошлого не проходили. Стабильность, бесценная для старшего поколения, кажется ей скучным «застоем», «отстоем». Дорого давшийся России вновь обретенный суверенитет, после пары десятилетий фактического внешнего управления, не ценится молодыми, косящими глазом на Запад. Молодежь не замечает той гигантской созидательной работы, которая незримо стоит за нашими достижениями в военно-промышленном комплексе, за Крымским мостом, за новейшим атомным ледоколом и т.п. Она не читает журнала «Форбс» и не может судить о том напряжении, которое царит в рвущем постромки бизнесе, в интеллектуальных технологиях современной России. Ей хочется «комфорта» и «справедливости», «уважения к правам и свободам человека», а какой ценой – не все ли равно?!
Снова и снова мы видим достаточное количество людей, жаждущих «великих потрясений». Таких наш гениальный Пушкин охарактеризовал точнее некуда: «Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка». И вот уже подрастают вечно всем недовольные молодые «протестные поколения», которые вместо того, чтобы заниматься каким-нибудь хорошим конкретным делом на пользу родной стране и народу, выходят на улицы и площади, чтобы защитить «свободу» и «права человека», с которыми – предоставь им их в желаемом объеме – сами не знали бы, что делать.
Но что хуже всего: мы снова видим массы интеллигентных людей, воодушевленных ложно понятым добротолюбием и человеколюбием, которые с таким же сочувствием относятся к нынешним фрондерам, бузотерам и даже бунтовщикам, с каким восхитительная в своей душевной чистоте и простоте купринская Гусеница относилась к бедным матросикам, спасшимся с восставшего и расстрелянного «Очакова» в далеком 1905 году. Эти люди не прячутся, не робеют, они гордятся своим гуманизмом, выставляют его напоказ, носятся с ним по улицам и площадям – поклонники Бориса Немцова и Никиты Белыха, Егора Жукова и Константина Котова, защитники «Сети»** и «Нового величия»**. О них так и хочется сказать словами Куприна, написанными по поводу террористок прошлого века: «Как спокойны и просты их лица и что за прекрасное выражение в этих ясных, таких человеческих глазах. Чувствуешь, но не расскажешь словами. Тут и нежная доброта, тут чистота мысли, и светлая печаль, и какая-то счастливая обреченность, и великая любовь, и непоколебимая твердость решения».
Не так ли, а?
И как актуально купринское же признание, столь ярко характеризующее типичного русского интеллигента, высокоумного и сердечного, изряднопорядочного, но без царя в голове: «Моим душевным инстинктом всегда было стремление идти против большинства и силы, которые оба мне всегда представлялись неправыми». Наверное, все участники сегодняшних протестных выступлений могли бы сказать о себе то же самое. А доведись им «спасти» кого-то из тех, кто попал под судебное преследование за публичные бесчинства, они, наверное, с купринским смаком поведали бы, «с каким наслаждением пили водку» они потом со «спасенными»!..
Что на это сказать?
Гусенице ее опасная глупость и прекраснодушие, ее убийственный гуманизм отчасти простительны. Она еще не столкнулась с настоящей революцией. Она не знала, не могла знать и предвидеть, она даже в страшном сне представить бы не могла, чем спасаемые ею матросики займутся всего лишь каких-то двенадцать лет спустя!
Но мы-то знаем…
И мы, пережившие роковой для русского народа ХХ век, теперь знаем точно и твердо, что подобные радетели за честь и достоинство, за права и свободы, за торжество гуманизма – это вовсе не соль земли, как могло показаться в далекие дореволюционные времена, а самая настоящая дрянь, отбросы общества.
«Дурную траву – с поля вон», – говорит народ. Революционеры всех мастей – дурная трава. Они дураки, если не сознают, не ведают, что творят; они сволочи, негодяи, если сознают и все-таки делают.
Ясно понимая этот простой вывод из нашей непростой истории, мы не должны оставлять места для компромисса, даже узенькой щелочки для сочащегося прекраснодушия и глупого, недальновидного, убийственно опасного человеколюбия. Мы не должны уподобляться дряблым, выжившим из ума участникам ГКЧП, с их параличом мозга и воли, позорно проигравшим судьбу нашей Родины, в то время как их умные, волевые и подлинно, а не показно гуманные коллеги из КПК вывели танки на площадь Тяньаньмынь, а свою страну тем самым – к высотам процветания и спокойствия.
Что должна была сделать купринская Гусеница, да и сам Куприн, обладай они хоть немного истинным пониманием жизни? Конечно же, немедленно сдать беглых матросов-бунтовщиков полиции. Без колебаний и интеллигентских мерихлюндий, сознательно и неукоснительно. Тогда, может, и революции бы не случилось. Тогда, может, и совесть была бы чиста – да не на десять лет, а на всю жизнь.
Вот какие мысли взволновали меня и заставили сесть за письменный стол по прочтении купринского рассказа «Гусеница». Такая вот социальная энтомология…
[1] Здесь и далее цитаты приводятся по тексту: Куприн А.И. Собрание сочинений в 6 томах. Т. 5. – М., ГИХЛ, 1955. – Сс. 562-570.
[2] Ради подробностей см. обстоятельную и новаторскую монографию: Геннадий Головков. Бунт по-русски: палачи и жертвы. Рандеву с революцией 1905-1907 гг. – М., 2005. Также см.: Севастьянов А.Н. На русско-еврейской этнической войне. – Вопросы национализма, №№ 28-29, 2016-2017.
[3] См.: Севастьянов А.Н. У истоков. Ленин об интеллигенции. – Радуга (Таллин). – №№ 2-3, 1990.
[4] https://pravoslavie.ru/37289.html
[5] Куприн А.И. Собрание сочинений в 6 томах. Т. 5. – М., ГИХЛ, 1955. – Сс. 774-775.
[6] Куприн А.И. Собрание сочинений в 6 томах. Т. 5. – М., ГИХЛ, 1955. – Сс. 774-775.
[7] Писаревский Сергей Петрович – контр-адмирал, начальник штаба Черноморской флотской дивизии, был ранен 11 ноября 1905 г. выстрелом Петрова, матроса 28-го флотского экипажа.
[8] Куприн А.И. Собрание сочинений в 6 томах. Т. 6. – М., ГИХЛ, 1955. – Сс. 575-579.
[9] Григорий Павлович Чухнин (1848-1906) из дворян Херсонской губернии. Начал обучение в Александровском корпусе для малолетних дворянских детей в Царском селе, продолжил в Морском кадетском корпусе. С 1902 по 1904 год служил начальником Николаевской морской академии и директором Морского кадетского корпуса. 2 апреля 1904 года назначен Главным командиром Черноморского флота и портов Черного моря. Вице-адмирал. 3 марта 1906 года Чухнин, выполняя Высочайшее распоряжение поступить с бунтовщиками по закону, утвердил смертный приговор лейтенанту П.П. Шмидту и троим его подельникам. Информация Куприна о том, что Чухнин входил в иностранные порты с повешенными на рее матросами, ничем не подтверждена.
[10] https://www.proza.ru/2012/03/14/993
[11] Куприн А.И. Собрание сочинений в 6 томах. Т. 5. – М., ГИХЛ, 1955. – С. 814.
[12] Александр Куприн. Хроника событий глазами белого офицера, писателя, журналиста. 1919-1934. – М., Собрание, 2006. – Сс. 478-479.
[13] Александр Куприн. Хроника событий глазами белого офицера, писателя, журналиста... – С. 113.
[14] Ольга Фигурнова. Четвертая жизнь Куприна. Предисловие к кн.: Александр Куприн. Хроника событий глазами белого офицера, писателя, журналиста... – Сс. 13-14.
[15] В статье «Три года» (1926) читаем выразительное признание: «И тем еще привязала меня к себе “Русская газета”, что предоставила мне полную свободу высказывать свои мысли. Лично мне это удовольствие принесло мало пользы. Говоря о монархизме в разрезе идеологии, заступаясь за скорбные исторические тени, подвергаемые оклеветанию, я приобрел кличку монархиста, и уличные мальчишки левого журнализма тыкали в меня, на моем чистом пути, пальцами и кричали: вот идет монархист, вот идет черносотенец, вот идет мракобес».
[16] Александр Куприн. Хроника событий глазами белого офицера, писателя, журналиста... – С. 196.
[17] Александр Куприн. Хроника событий глазами белого офицера, писателя, журналиста... – С. 207.
[18] Александр Куприн. Хроника событий глазами белого офицера, писателя, журналиста... – С. 517.
[19] Граф Г.К. На «Новике». Балтийский флот в войну и революцию / Предисл. и комментарии В.Ю. Грибовского. – СПб., Гангут, 1997. – Сс. 250-286.
[20] Гавен Юрий Петрович (Дауман Ян Эрнестович) – латыш, большевик, политкаторжанин, в конце 1917 – начале 1918 гг. председатель Севастопольского ревкома.
[21][21] Соколов Д.В. Без срока давности. Большевистский террор в Крыму в 1917-1921 гг. – М., МНЭПУ, 2017. – Сс. 30-37.
[22] Соколов Д.В. Без срока давности. Большевистский террор в Крыму в 1917-1921 гг. – М., МНЭПУ, 2017. – Сс. 38-55.
[23] Дело № 5. Особая комиссия по расследованию злодеяний большевиков, состоящая при главнокомандующем Вооруженными силами на Юге России. Сведения о злодеяниях большевиков в гор. Евпатории. – Красный террор в годы Гражданской войны. – М., Терра, 2004. – Сс. 197-200.
[24] Королев В.И. Таврическая губерния в революциях 1917 года. – Симферополь, Таврия, 1993. – Сс. 49-50.
[25] Королев В.И. Там же, сс. 52-67.
[26] Александр Куприн. Хроника событий глазами белого офицера, писателя, журналиста... – С. 174.
[27] Александр Куприн. Хроника событий глазами белого офицера, писателя, журналиста... – С. 533.
*СМИ, выполняющее функции иностранного агента
** запрещённая в РФ террористическая организация