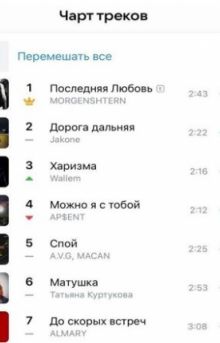В новогоднюю ночь с 1973 на 1974 год в Баренцевом море свирепствовал ужасающий шторм. Силу ураганного ветра невозможно было замерить – зашкаливали анемометры. Их создатели, видимо, не представляли, что может быть ветер такой силы.
Через этот шторм пробивалась в базу атомная подводная лодка, на которой я шел приписным штурманом. Из-за повреждения прочного корпуса, не позволявшего погрузиться, лодка шла в надводном положении.
Смешанная качка была не только сильной, но и незакономерной. Лодка то шла вперед, то, словно налетев на стену, останавливалась, содрогаясь, то начинала вращаться вокруг непонятной оси.
Перед полуночью я прошел по лодке. Я всегда обходил лодку на своей вахте. Одно дело, когда это делает командир или старпом. Это их обязанность, создающая некоторую напряженность в отношениях с экипажем. И другое дело я, штурман, заходящий к своим коллегам по дружбе. Я рассказывал им, чем занимаюсь, мне рассказывали, что делается у них. Это позволяло нам, экипажу, быть одним целым.
В этот раз я шел по отсекам, погруженным в полумрак. Освещение сократили, чтобы не видеть измученных лиц друг друга. Тогда у нас еще не умели наслаждаться страданиями ближних.
Людей почти нигде не было видно. Все ухитрились забиться в какие-нибудь щели на своих постах. Лодка, казалось, шла сама по себе. Но, когда раздавался грохот сорвавшегося на качке ящика с инструментом или еще чего, откуда-то выскальзывали легкие тени, быстро крепили сорвавшееся и исчезали. Те же, кто не мог скрыться, рулевой, например, или операторы на пульте управления ядерной установкой, сидели с такими напряженными лицами, что было ясно – лучше их не замечать.
Тем не менее, я коротко объяснил им суть предстоящей работы; получил кивки в ответ – мол, все понятно. Сказать хоть слово у них не было сил.
В жилых отсеках, в каютах, свободные от вахты моряки лежали лицом вниз, обхватив руками койки, вдавившись в них.
На всю лодку живым и бодрым оказался один лишь химик. На посту у него горел полный свет, был накрыт стол. Мы с ним посидели, поболтали, попили чайку.
От химика пошел на мостик посмотреть, как чувствует себя море в такой шторм. Мне нужно было быть заодно не только с лодкой и экипажем, но и с окружающей природой.
Проскользнув через верхний рубочный люк, быстро закрыл его, выпрямился, взглянул на море… И кровь, что называется, застыла в моих жилах. МОРЯ НЕ БЫЛО!
Была даже не пена, а мельчайшая кисея. Только она одна и была вокруг. Но и ее жесточайший ветер продолжал перемалывать в ничто. Не верилось, что где-нибудь еще осталась неперемолотая вода. Было непонятно: как и на чем держится тяжелая, в несколько тысяч тонн, лодка? Неужели на этой легчайшей кисее?
Поэтому я почувствовал облегчение, даже радость, когда откуда-то из кисеи вдруг появилась темная вода и обрушилась на мостик. Но ветер схватил ее, тут же, на мостике, перемолол и унес куда-то с ошеломляющей скоростью. И я опять затосковал от подозрения, что это была последняя вода в мире.
Под козырьком мостика двое. Командир лодки Владимир Мочалов и вахтенный офицер Федор Тыщенко. На обоих надеты страховочные пояса с мощными и длинными стальными цепями, прикрепленными к скобам ограждения мостика.
Мочалов выглядел как обычно. Вот что значит ответственность командира! Наблюдая в штормовых условиях десятки командиров кораблей и капитанов судов, я никогда не видел никого из них укачавшимся.
Федор же был совсем плох. Он стоял, согнувшись, обхватив руками пиллерс, поддерживающий козырек мостика. Было видно, что Федор потерял всякий интерес к жизни.
Мочалов, как и положено командиру, старался поднять боевой дух подчиненного. Перекрывая шум ветра, он кричал в ухо Федору свои соображения о необходимости совершенствования его личности.
Федор среагировал только один раз, когда Мочалов спросил его:
– Федя, ну зачем тебе нужна такая жизнь?
Федор ожил, доверчиво потянулся к Мочалову, засветился надеждой, что он услышит совет, как покончить с этой невыносимой жизнью в жесточайшем шторме.
Мочалов пояснил свою мысль:
– Не куришь, не пьешь, по девушкам не ходишь.
– А-а, Вы об этом, – разочарованно протянул Федор и снова сник.
Федор был у нас олигархом, копил деньги. Что было очень кстати для всех нас. Ведь как бывало? Как только промотаешь получку, так обязательно попадется самая чудесная девушка в мире. А угостить её мороженым уже не на что. Прямо закон какой-то! Бежишь к Федору. Он, конечно, поломается, но всегда одолжит.
Когда революционно настроенные массы неизбежно примутся брать за шиворот олигархов, обязательно надо хоть немного оставить. Хотя бы по одному на дивизию.
Иногда на мостик, обманув ветер, заходила крупная волна. Не трогая особо ни меня, ни Мочалова, волна хватала Федора, утратившего способность цепляться за что-то в этой жизни, и уносила его за борт, в бездну. Только натянутая цепь оставляла надежду, что Федор еще может быть где-то рядом.
Мочалов, не торопясь, спокойно и привычно выбирал цепь. Федор появлялся из преисподней и, перевалившись через ограждение мостика, сваливался кулем без признаков жизни на пайолы мостика. Удар от падения приводил его в себя, как будто он там, за бортом, спал. Он резво вскакивал на ноги и приникал к своему пиллерсу. Но на лице Федора не было ни тени потрясения или испуга. Одно безразличие: что висеть за бортом, что стоять, прижавшись к пиллерсу.
Лодка была окутана голубоватым свечением. Как будто по случаю Нового года, повсюду повисли и расселись огни святого Эльма. На антеннах – гирлянды роскошных, до полуметра в диаметре, сверкающих шаров. На обшивке надстройки и мостика, на поручнях, везде, где имелся хоть малейший изгиб, расположились светящиеся полусферы самой разной величины, живущие непонятной, легко мерцающей жизнью.
Федору всё было безразлично, даже такая красота, а Мочалов опасливо поглядывал на эти шары и полусферы, стараясь держаться от них подальше.
Я тоже понимал, что каждый из этих светящихся зверьков может представлять собой заряд испепеляющей силы, но всё же не удержался и погладил одного из них.
И мне за это ничего не было! Мы с ним были одной крови.
Смотреть на эти чудеса можно было бесконечно. Но лодка подошла к входу в узкость, и мне пришлось заняться своей штурманской работой.
Узкость имела несколько колен и считалась довольно сложной для прохода кораблей. В ней существовало ограничение скорости хода. Но из-за сноса, при таком ветре, мы вынуждены были в нарушение всех приказов и наставлений идти полным ходом.
Конечно, в такой шторм корабли не только не должны подходить к берегу, а обязаны уходить подальше в море. Но у нас была неисправность – повреждение корпуса. И была причина – хотелось встретить Новый Год с родными и близкими. И потом, на борту был я. Ни у кого, в том числе и у меня, ни малейших сомнений не возникло, что я справлюсь с любой стихией.
Конечно, весь экипаж участвовал в проводке лодки в узкости. Морская работа – дело коллективное. Если один член экипажа отработает на четыре балла, а второй на два, то результирующей оценкой будет «два». Поэтому столь важна сплоченность, сработанность всего экипажа, столь важна отработанность действий каждого члена экипажа.
Но главным действующим лицом, несомненно, был штурман. Многие командиры, понимая это, перед проходом узкости даже делали официальные записи в вахтенном журнале о передаче управления кораблем штурману. Некоторые из них, сделав такую запись в самом начале похода, «забывали» вернуть себе управление лодкой. И тогда получалось, что официально штурман весь поход командует лодкой и официально отвечает за все. Кое-кто из этих некоторых в море давал повод задуматься: не воспользоваться ли полученной властью, не стоит ли вывести горе-командира на кормовую надстройку и расстрелять? Но штурманской работы у меня в море было всегда настолько много, что я так ни разу и не удосужился это сделать. Должен заявить во избежание недоразумений, что Мочалов не входил в число этих «многих», а тем более – в число «некоторых» или «кое-каких».
И мы вошли в узкость, и прошли ее почти всю. И это не было только удачей. И не было просто свидетельством моего профессионализма и подтверждением эффективности методики неалийных линий. Поверьте, это было высокое искусство, пронизанное вдохновением, принесшее мне глубочайшее удовлетворение, как если бы я дирижировал симфоническим оркестром.
В моей душе зародилось ликование. А ликование часто служит предвестником неудач.
И неудача не замедлила появиться. Но не в моем кораблевождении.
Еще в море прошли переговоры с оперативным дежурным. Мы его попросили подобрать подходящий пирс для швартовки в таких тяжелых погодных условиях. Он и «подобрал».
Руководят кораблями в море с берега, в основном, бывшие командиры кораблей. Казалось бы, все они достаточно накувыркались в море, чтобы осознать, как важна для моряков поддержка с берега. Пусть даже не поддержка, а простое понимание. Бывает и так, но редко. Чаще же, как только попадает бывший моряк в кабинет, так корабли для него становятся значками на обзорном экране. И он больше думает о ножках барышни-оператора, передвигающей эти значки, или о своем блестящем утреннем докладе начальству, чем о том, каково морякам в бушующем море.
Наверное, наш оперативный был из таких же «кабинетных». Минут за десять до подхода к указанному им пирсу, мне стало ясно, что там невозможно пришвартоваться. Я мог точно подвести лодку к этому пирсу, но погасить там инерцию сноса от ураганного ветра и течения, нам бы не удалось. На новые переговоры с оперативным времени не было.
Выбираю подходящий пирс. Там уже стоит плавбаза, но вероятность навала на нее практически отсутствует. Курсовой угол на ветер для нас там будет близок к нулю. Лучше бы побольше, чтобы прижимало. Но Мочалов справится. Предлагаю ему новое место швартовки, и он соглашается.
Минуты за две переделываю расчеты.
«Переделываю расчеты», организация, труд – это, пожалуй, громко сказано. Это я для какой-нибудь девушки. Почитает она и, быть может, подумает: «Какие же все-таки моряки умные и смелые. Особенно этот штурман. Корабль в бурю несется мимо грозных скал, навстречу верной гибели. И всё из-за гнусного юбочника, оперативного. А штурман, стоя на мостике, рассчитывает, рассчитывает. На компьютере, арифмометре, логарифмической линейке, столбиком... И в последний миг спасает корабль своими расчетами.»»
На самом деле, всё, что мне нужно сделать – снять поворотный пеленг для пересечения линии пути с неалийной линией (всё это есть у меня на планшете), потом посмотреть в окуляр пеленгатора и, увидев там отсчет этого пеленга, сообщить Мочалову. Всей работы – секунд на двадцать от силы. Приятно служить штурманом, владея объемным чтением и неалийными линиями.
Но погода уж очень жуткая. В обычной обстановке, повернув к причалу, я передал бы всё управление лодкой командиру. Приглядывая, конечно, за его действиями. Сегодня мне нужно поработать побольше. Я передвигаю на планшете точку, в которой мы должны остановиться у причала, подальше от плавбазы. Это мой небольшой загашник, метров десять. Зачем я всегда прихватываю эти загашники, мне и самому не до конца понятно. Они мне ни разу не пригодились, а в планшете и так уже заложен достаточный запас. Наверное, по принципу: «Кто чем владеет, тот то и имеет». Я владею навигационной безопасностью, вот и урываю ее себе побольше. Не люблю шампанское. Ничего, Мочалов вытянет.
Затем, с учетом сноса, выбираю из таблицы инерции пробег при отработке заднего хода и откладываю его на планшете от точки швартовки. Смотрю на то, что получилось, и поеживаюсь. Слишком близко, кажется, от плавбазы и от берега. Беру себе еще один загашник. Окончательно определяю точку начала отработки инерции и снимаю для нее контрольный пеленг. Выбираю новую неалийную линию и, учитывая ее, подправляю и первый поворотный пеленг начала поворота к пирсу.
Подготовка закончена. Теперь можно было бы и отдохнуть. Но надо успокоить Мочалова. Он же не верит, конечно, что я, поразглядывав планшет пару минут, подготовился к швартовке. Вот, если штурман зарылся в расчеты или постоянно снимает какие-то отсчеты, то душе командира становится спокойнее. А я уже знаю, что Мочалова ждут несколько не самых лучших минут в его жизни.
Развиваю показушную бурную деятельность, в процессе которой получаю еще одну засечку места лодки, подтверждающую, что у меня всё в порядке.
Приходим на поворотный пеленг и начинаем поворот. Лодка, завершив небольшую циркуляцию, устремляется на полном ходу к пирсу.
Я с опаской поглядываю на Мочалова. Многие командиры кораблей и капитаны судов, при подходе к причалу, вдруг начинают самостоятельно, без штурманских рекомендаций, беспорядочно снижать ход. С полного на средний, затем, когда инерция корабля еще не снизилась до среднего хода, дается команда на малый ход. И непонятно: с какого хода, то ли с полного, то ли с малого, начинается отработка заднего хода, реверса?
Абсолютно безрасчетное маневрирование. Штурман в таких условиях работать не может. Остается только махнуть на всё рукой и подать в отставку.
Страшновато идти к пирсу полным ходом. Но нас, если мы бы уменьшили ход, в такой ветер унесло бы с этого света. Ураганной силе ветра нужно было противопоставить силу нашей ядерной энергетической установки.
Но Мочалов был не беспорядочный. Он принадлежал к любимой мной породе начальников, которые всегда полагаются на своих подчиненных, сколько бы те их ни подводили.
В хорошую погоду он любил стоять на мостике, вглядываясь в неоглядные дали.
К нему подскакиваю я:
– Товарищ командир! Время поворота на курс 235 градусов.
– Ворочать!
Связист:
– Товарищ командир! Время передачи РДО.
– Передать!
Помощник командира:
– Товарищ командир! Обед готов.
– Иду.
Прелесть, а не командир! Никаких с ним хлопот.
Вот и сейчас он держал свой стиль. Мы стремительно проходили мимо его командирских зарубок на отработку заднего хода, но он угрюмо молчал и ждал доклада. А ведь допусти я пару секунд ошибки в определении времени начала отработки реверса – так мы или врежемся в берег, или нас снесет на скалы.
Подходим к контрольному пеленгу. Пора.
– Время отработки заднего хода.
Мочалов, не дослушав, командует:
– Обе турбины! Реверс!
Лодка, крупно задрожав всем корпусом, оседает на корму. Кажется, какая-то могучая сила взяла ее под уздцы.
Дождавшись, когда скорость лодки упала до двух узлов, докладываю Мочалову, что инерция погашена.
– Стоп турбины!
Лодка становится легкой, пляшет на волнах, медленно продвигаясь вперед вдоль борта плавбазы. Все мои загашники на месте.
Мочалов не выдерживает и высказывается. Правда, смотрит при этом не на меня, а в сторону плавбазы, на просвет воды между лодкой и плавбазой.
– Вот, гад! Опять нахапал!
Появившиеся на мостике старпом, помощник и замполит удивленно смотрят на Мочалова. Потом начинают разглядывать плавбазу, на которой нет никаких признаков жизни, пытаясь разглядеть, кто это там чего нахапал.
Я не обижаюсь. Ну, приболел человек от пережитого. Кто угодно заболеет после пяти минут полного хода прямиком на скалы. Особенно, если ждешь чужого решения.
Жесткими, короткими, но полными ходами турбин Мочалов убирает мои загашники, окончательно гасит инерцию и прижимает нос лодки вплотную к пирсу, под носом плавбазы.
Береговая швартовая команда ждет нас далеко отсюда, на пирсе, указанном оперативным дежурным. Поэтому с носа лодки высаживается на пирс наш десант. Одни сразу набрасывают оганы носовых швартов на палы пирса, другие врываются на плавбазу, до смерти напугав вахтенного у трапа, и начинают хозяйничать на ее палубе, заводя кормовые швартовы.
Особым энтузиазмом выделяется Федор. По расписанию он является начальником кормовой швартовой команды.
Всё, пришли. Ребята успеют прихватить немного праздника. Я осмотрелся. Ни одного огня святого Эльма! Как-то и не заметил, когда они исчезли. Не успел насмотреться вдоволь.
Хотя вдоволь такого – не бывает.