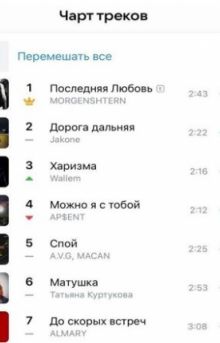Бабу Таню я узнала раньше, чем познакомилась с ней. Наша редакция переехала в один из домов на Фрунзенской набережной, путь туда пролегал по дорожке через скверик, на одной из лавочек которого и сидела часто, опираясь на палку, эта бабушка. По дорожке редко, кто ходил, развлечений у сидящих в скверике было немного, поэтому все идущие мимо провожались пристальным взглядом. Через какое-то время я стала приветственно кивать, и бабушка отвечала мне тем же. Как-то она, кивнув, призывно помахала рукой. Я подошла.
— Как зовут-то тебя?
— Катя.
— А меня баба Таня. Ты тута работашь или жить наехала? Жить-то тебе тута негде, все квартеры тута занятые.
— Работаю.
— Ну-ну, я так и надумала, что работашь тута где. Дак только когда тебе работать, коли ты всё бягом бегашь? Я в одну сторону засмотрюсь, а ты уж с другой бягом бяжишь. Щас ногами-то денёг много не набегашь. Щас только волка ноги и кормют. А кто из людей бягом бегат — тот бедно живёт. Кто вон сиднем сидит, да на шее тех, кто бягом бегат — те богато живут.
— Да нет, и работать успеваю.
— А успевашь, то пока ноги носят — бегай. Уж не понясут когда, дак и не пройдешь пешком, не то — бягом. А как я вон, с клюкой да полозом. Ране-то я тоже была на ногу скора. Да на войне ишо ноги оставила. Я же на фронти: то окопы рыть, то раняных таскать. Ой! Оне тяжёлые — ровно кули! Ташишь яво, ташишь — упирашься. И он ведь тожа упиратся. Всё чем зацепит, найдёт: коряга, корень, не сдвиняшь прямо, быват. И оба рявём другой раз. Оба оплакивам: не выташить! Ряветь рявела, а ни одного не оставила — всех уташила, сколько ни упирались. А я больша их упиралась — да и выташила. И вот — клюка за это.
— Да сейчас и молодые-то еле ноги таскают.
— Правду говоришь, да. Мне ведь под девяносто! А я вот обзавелася третьей ногой, да и таскают оне все три меня помаленьку. Ни без одной не обойдуся. Ни шагу не ступлю без какой из трех-то. Да, мы здоровше были, хоть ели плохо. Сейчас едите хорошо, а всё не в вас корм. Вот в тебя корм удался. А другая посмотришь — еле ноги волокёт, — бабушка обречённо машет рукой.
С тех пор мы то и дело разговариваем с бабой Таней. К разговору всегда приглашает она меня.
Бегу в очередной раз через сквер. Баба Таня на своём месте. Мы улыбаемся друг другу, машем приветственно руками, а то и посылаем воздушные поцелуи. Она, если хочет поговорить, сначала машет рукой из стороны в сторону, приветствуя, а потом от себя — к себе, подзывая. Подхожу. Она берёт мою руку, трясёт, широко улыбаясь беззубым ртом. При этом разговор у неё довольно чистый, даже не шепелявит.
— Здравствуйте, баба Таня.
— Здравствуй, здравствуй, птичка моя. Ты ж как птичка всё леташь. Я по тёплой осени тебя приметила. Думаю: "Кто тута лятать так взялся, что за пичуга?" Думала, зимой шубу наденёшь, уж не взлятишь в шубе-то. А ты и в шубе леташь, золотая ты моя. А я представляю, что я с тобой лячу. И бабка через тебя лётом лятит. На работу лятишь?
— На работу.
— Начальник-то хорошай?
— Хороший.
— Да и без спросу можно угадать: к плохому так не побяжишь работыть, как на крылах вон. К плохому ноги не несут, хотя будь оне и резвы. Эта хорошо — начальник хорошай. Дажа если строг, но хорошо строг — тожа хорошо. Справедлива-то строгость не страшна, она нужна. Без её никак нельзя. Справедлив он у вас?
— Справедлив.
— Ну и оценяй. А то плохой где начальник — и от денёг хороших убяжишь,— баба Таня машет рукой. Из-за необходимости опираться на палку она ограничена в жестикуляции. Но эмоции ей удаётся передавать живейшей выразительной мимикой на простом круглом лице и маханием руки: вверх — вниз, слева — направо, наискосок. — И на строгость, коли справедлива, не обижайся, — наставляет меня бабушка.
— Я не обижаюсь.
— Дак ты жо умница,— она вновь берёт мою руку и трясет, улыбаясь во весь свой беззубый рот. — Ты ходить-то и не умеяшь, верно, всё бягом бяжишь. Ты не за курьера ли?
— Нет.
— А чаво бягом бегашь?
— Раньше спортом занималась, кроссы бегала, а теперь…
— Это вдоль реки по набережной-то бягут когда, — перебивает меня баба Таня,— ты тожа бягом бяжишь? Ну-ну. Я кроссы вижу, а тебя не вижу в кроссых-то. Далеко не вижу. Ну-ну. Ты вот с этих кроссыв как разбяжалась, и остановишься никак? А я уж отбегыла. Без кроссыв отбегыла: то брюхом — раняных ташшила, то не по земле, а в землю — окопы рыла. Вот.
— Вы где воевали?
— Нет, не воевала. На войне была, а не воевала.
— Ну, на войне были...
— А как не быть? Она война-то, хоть со стороны пришла, а сверху всех и придавила. Я комсомолка не была, а была родину любяща. Как это, думаю, чужи придут и скажут на нашу землю — наша! Нет. Не хочу! Эдак не годится дело, нет! А коли как не нравится, дак делай так, чтобы не случилось так, как не по тебе. Я и старуха, и в деревне своей давно не в деревне, а и сейчас чужому отдать не хочу! И сейчас поволоклась хоть вот палкой бить,— баба Таня поднимает палку и трясет ею угрожаюше, — какого другого германца. Да. И как войну по радиё сказали, я — в район. На фронт, мол, пойду. Меня — в стыд: кака из тебя солдат? Оден срам, а никакой не солдат. Стрелять винтовкой не умешь, летать самолётом не умешь, раны санитарить не умешь. Чё тебя брать, форму переводить? Заворотили.
А я ишо то пошла, что тятя горевал: сам георгийский кавалер, а ни одного солдата в избе. Только полна изба негодящего к войне народу: три девки. Говорил: всё геройство моё на фронте. Пришел в мир — и не герой: на парня сделать не годен! Ни одного попадания! Это до брата Коленьки говорил, а потом Коленька стал, дак к войне только на пять годков и нажил. Мал.
Тятя-то по германской ишо немца знал и упреждал всё: "Хоть ты эти договоры мирныя столь напиши, по договору на кажду частоколину насадить, а коли германцу надо войной, а ему всё надо войной, он войной и пойдёт".
Бывало, радиё отслушат, рукой махнёт и скажот: "Сидите на своих мирных гумагах. Как пальнут в вас, вот и узнаете, что гумага против снаряда. А он, снаряд, читать не обучен. Он и не ведат, что вы на мирном договоре сядите. Прилятит он вас с договором вместе отчествует. Гумага не оборонит от пушки. Дождётесь".
Нам говорил: "Девки, вам судьба — вековать да вдоветь. Это как германец надумат. То ли успеете за мужей сходить, то ли до женихов и не дорастете, а их уж на фронт. Женихов ковром на полях и разложат, германцы-то". Он германцыв хорошо знал. Ни в доверии у тяти оне были.
Мы дурочками-то послушам таки его калякы, и ряве-е-еть. Тятя — балагур. Смеётся: "Давайте, вдовейте, векуйте уж сейчас. Чё ждать? Рявите — не рявите, а германца русски слёзы не проймут".
Он наставлял: тово горя, что в пути, не горюй. Придет — нагорюешься.
И вот радиё не угадало, а тятя угадал на войну — германца. И на нас угадал. Я — вековуха, старша — вдова, и то хорошо, что с двойнятками вдова. А младша — нету.
Баба Таня умолкает. Сморит под ноги. И словно не мне, а себе рассказывает:
— Брать на фронт не брали, а уж когда война к деревне подошла, так не ты на её отправился, а она к тебе: окопы рыть, ранятых вытаскивала. Да, а потом и прижилась — с фронтом пошла. Навострилась санитарить: перевязать, шину класть. Я ушла за фронтом. А Надя — в лес.
Мама-тятя дома: тятя с германской на протезе. Дед неходящ, брату Коленьке чуть за 5 годков. Учительница до немцыв домами прошла, сказала: сельсоветные документы что закопали, а что сожгли. Кто как о себе скажот сейчас, так я и доложу немцам.
Тятя-мама сказались, что одна дочь в другом селе, мол, муж до войны сбёг, деток двое бросил. Что он на фронте — нельзя, да сын мал при нас, дедушко лежащ-неходящ.
Немцы в деревне не стояли, наезжали, и был от их староста поставленный. Он сказал тяте, мол, дом — пятистенок, а всего дочь другим домом да сын, дедушко. Кому строил? Пошто столь кроватей в дому? А тятя и скажи, мол, работника держали, сбег. Да бабку на погост снесли. Вот и кровати. А они, подумай, каки заметящи! Угадай, как прознают! Партизанов немцы боялись, потому лютовали на их. Надя раз проведала, мама спрашиват: где хоть вы там? А Надя и говорит: "Нет, не скажу. Так немцы на нас лютуют, что вам лучше не знать. Не дай Бог увидать, как они правду вынимают из нутра. Мы видели, что с людями сталось".
А только прибегат девчонка из Прилуковки. Мол, вашу Надю и нашего Петю — с деревни их парень Петя — везут узнавать. А вы не узнавайте. Нельзя".
Их на железке-дороге поймали, и выпытывают. Они ходили разведкой и заданиями парочкой, быдто они жаних и невеста. И их вызнавали: тутошни они или засланы. Ну, засланы коли, до Москвы нескоро доберешься. А коль тутошни — всех родных — прощай. Да и учительницу. Ведь она за всех говорила.
Маму тем днём к утру отбелило — снегом голова. А ещё и Надю не видела.
Мне не мама сказывала, а соседка, кака была Надя. И я не скажу. Потому я один раз ейными, соседки-то, глазами увидала, а больше бы и не перемогла смотреть.
Надю никто по деревням не узнал. Все знали, а никто не узнал. А признай — со всеми разговор короткий: пуля пока жужжит — балякат. А долетела — и сама притихла. И ты умолк. Оба навсегда. И весь разговор. Или вздёрнут — виси.
Их заперли в школе нашой на ночь с Петей. И Надя пела мамины песни. У мамы были украински песни бабушки Ксеньи. Мама отрыла окно и слушала. И нельзя было ничем выдать гореваниё. Соседка тожа слушала, говорит, как запела Надя "Не шей мене, матушка, красный сарафан", с вашего двора как собака завыла. Таки знаки давали: дочь да мать прошались.
И весь вечер и ночь — топор стучал, конец как ходиками отстукивал. А наутро — виселица в две петли. Всех согнали с деревни. Можот, так хотели выпытать, кто эти два. Всех мучали — смотри. Тятя раз сказал: "Лучша самому висеть, как на дочь смотреть. Мука — наказаниё." А дедушко той ночью и отошел. Под Надины пении. Колю дома оставить нельзя при покойнике — с собой к висельнице. И боялась мама, что он закричит — Надю увидит — обрадуется. Она на игры, на баловство была охоча. И с Колькой всё играла. Мама ей порой в укорение говорила: "Что ты така ветриста, нестепенна? Всё в пору не можешь войти. Тебе уж в девушки время, в степенность и серьёз". Потом себе в укорение ставила: Надя-то отыграться, отрадоваться хотела, как знала будто. А уж в те три дня, что до смерти, она таку серьёзность и степенность отжила, другой за всю жизнь не накопит, не наживет.
Мама Колю подняла на руках высоко. Но чтобы он не видел Надю, а она его — последнюю радость отрадовать. И Надя сказала: "Товарищи, я вас никого не знаю, потому что я сама с города Арзамас. А если бы я вас знала, то я бы вам сказала, что я люблю свою родину. У меня есть тятя и мама. И я бы им поклонилась за всё. И своим сёстрам. И я бы расцеловала братика. Но у меня нет такой возможности. А коли будет кто в городе Арзамас, то и скажите всё это". Это она сбить на Арзамас хотела, он далёко.
И мама окаменела. Как огнём глаза ей сожгло. Слёз не было, залить нечем — выжгло глаза. Сослепла.
Ты думашь, чё я не слезюсь? А у меня слёзы пропащи — нету. Выжгло и след. Без слёз я свою родимую Надю омыла. А без слёз горевать — горше нету. Когда за горем слёзы не идут, то жар изнутри глаза жжёт. Так у мамы спалены глаза.
Тятя был балагур, а вдруг как язык засох. Слово не вымолвит. Как к другому отцу я с фронта вернулась, как сменили на другого тятю. Всё, когда не в работе, сидит в себя глядит. И всё читал "Тараса Бульбу". Купил Тараса и всё Тараса читал.
У нас в деревне поставили памятник и посадили там березки, потому что Надя — невенчана. Хотели тополи посадить. А только невенчанным девушкам гожее березки. Самоё им это дерево.
И на нашу Надю я нагореваться не могу. По зятю отгоревала. Он меня засылал сватать, а высватали сестру ошибочно сваты. А потом на позор не пошли невесту менять. Ну и хорошо. И была бы я вдова. Да детки бы при мне. Оне сейчас мои племянники. А могло стать — детки.
Наша Надя была комсомолка. Меня не взяли. Я бабушку в церков водила в соседне село. Она слабо уж ходила да не видела. Доведу и оставлю. В саму церков не иду. Потом обратно идём. А мне сказали: всё равно нельзя в комсомол через церков, хоть и не внутрь. Не брошу я бабашку одну идти! А ей надо. Вот Надя — комсомолка. А я так — родину любяща.
Меня тут раз звали в школу рассказать войну. То много было ветеранов вон и в совете у нас. Сейчас нету. А я — ветеран. И меня позвали — некому. А я войну-то не больно войной знаю: окопы да ранятых таскала. Не геройничала. Не пришлось. И я рассказала про Надю. А как она воевала — я тожа не знаю. И мне сказали тутошни сидящи, что я неправильно войну рассказываю. Надо геройнось. А про Надю не геройнось? Не геройнось. Танки не сбила, немца не сострелила. А умерла и ни про кого не выдала! Как не геройнось? Война — она всяка: где громким горем, где тихой бедой.
Баба Таня подняла глаза, попыталась улыбнуться:
— Давно было, а быльем не поросло. Чего я тебя своим горем занимаю? Ты своей радостью радуйся, а моим горем не горюй. Вот так и война. Из пушек годами палит, да и отпалит. А сердце всю жизнь бьёт...