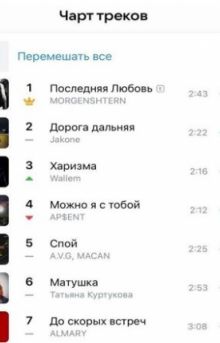Милые читатели! Предлагаю Вам в День скорби и памяти свой давний рассказ в небольшом сокращении о том далеком минувшем времени.
ДАРЬИНА ХАТА
Все так же бежит, немолчно несет светлые воды свои, лениво перекатывая с боку на бок разноцветные камушки на дне, родная тихоструйная река детства. В тихих заводях смотрятся в зеркало вод ее, опустив тонкие, гибкие ветви, плакучие ивушки да ракиты, тянутся ввысь, простирают над рекой причудливые ветви свои ольха и крушина, да глухой стеною встал по обоим берегам молодой, разросшийся малинник и густой, высокий, первозданный папоротник, от которого веет чем-то дремучим и сказочным.
Любит папоротник-кочедыжник сырые, волглые места и лощины. Вот и разросся здесь, подле речки, неслыханно. Молодые побеги его съедобны, их можно употреблять в пищу. В лихую военную годину побеги папоротника сушили, превращали в муку и пекли из нее лепешки.
А недалеко от речки, на возвышающемся взгорке, все так же стоит с покрытой потемневшей щепой крышею Дарьина хата и старый колодезный сруб с привязанным веревкой ведерком.
В давние времена возникла здесь деревенька смоленская, лесная, избяная. И была на родине моей тихой, льняной, березово-ситцевой война жестокая, с кровавыми восходами и закатами. Несметное число народа моего древлего, смольнянского, полегло на земле родной, врагами истоптанной, выжженной. Много русских солдат погибло у древлих башенно-крепостных стен города Смоленска, златоглавокупольного, колокольного, у быстро бегущих вод голубого Днепра.
Шел бой, дотоле невиданный, возле деревни родимой, разоренной, вытоптанной варварами. И летали, кружились вороны черные над полем-побоищем.
А когда жестокий бой, длившийся несколько дней и ночей, закончился, то все поле было сплошь усеяно трупами убиенных воинов, из ран которых кровь ручьем стекала в прилегающую к полю низину, в быстро бегущую здесь небольшую узкую речушку. Вода в ней от обильной крови людской несколько дней и ночей была ало-рдяно-красная. С тех пор это место стали называть Кровавым Ручьем.
После битвы той не на жизнь, а на смерть, схоронили, засыпали землей тут же, прямо на поле, убитых варваров. Получились могилы огромные, курганные. А своих, полегших за Родину воинов, оставшиеся в деревне старики да бабы с детьми свезли с большими трудностями на клячах и схоронили на кладбище.
На самых вершинах курганов, на костях павших, выросли дерева высокие, березы да сосны. Они и поныне возвышаются над полем, где пасутся теперь мирно стада коров и овец, возвышаются, как память, как напоминание о скорбных, теперь уже далеких днях.
Только поосели, поуменьшились от времени те курганы безымянных немецких воителей, пришедших нежданно-непрошенно, чтобы покорить, загубить Родину-Русь голубую, загадочную, для чужаков непонятную. Но нашли они здесь себе смерть, могилу вечную.
Освободили свою землю солдаты русские, прогнали врага ничтожного, ненавистного от деревни родимой, полувыжженной, разоренной, от поля вытоптанного, с ручьем кровавым, стекающим в реку, от Смоленска, родного древнего, златоглавокупольного, колокольного, от стен его крепостных башенных, от Днепра голубого быстротечного.
Много жалких сирот неприкаянных, без отцов, вдов, без мужей, осталось на земле и в деревне родимой, опустелой после той великой памятной войны. А раньше цвели в ней по весне сады вишневые и яблоневые, белопенные, родились в них вишни спелые да яблоки румяные, сладкие. На золотых нивах тяжелый колос спел, наливался, росли травы сочные, духмяные. Водилась скотина богато. И выходили спозаранку, еще до зари, мужи-косари на луга, в травы росные, покосные, в поля просторные, обильные, сено, овес и гречиху косить. Распускались под небом необъятным незабудки голубые, ромашки белые да васильки синие. Лилась над землею благодатною, над ширью полей просторных песня жаворонка, песня звонкая, трепетная.
О, земля моя, жаворонковая, неизбывная, журавлиная, траворосная, как стерпела ты врага ненавистного?!
Осталась вдовою и Дарья, бедная, сирая, без угла, без двора, с детками малыми. А было у нее их пятеро да двое племянников от сестры родной, врагами погубленной, на мине подорванной. Значит, всего семеро. Но еще мать-старушка и тетка престарелая.
Было тогда ей тридцать с лишним годков. Не потеряла она стать и красу свою, хоть и сошел с лица ее былой первоцвет. Только стали мягче и женственней движенья рук, поворот головы, округлее бедра, добрее светлая улыбка да у самых синих глаз появились едва заметные тонкие лучики.
Слыла Дарья на селе первой красавицей в молодости. Глаза большие, синие, цвета васильков, с поволокою, волосы русые, золотистые, что пшеница в поле налитая, зрелая, на щеках румянец нежный девичий. Ни статью, ни ловкостью в крестьянской работе, ни чистотой души не обделил ее Господь. Про таких, истинно русских женщин-славянок, писал поэт: «Пройдет – словно солнце осветит! Посмотрит – рублем подарит!»
Лучшие парни на деревне заглядывались на нее, добивались ее любви. Но мил ей был лишь один, чернобровый, темно-русый, вихрастый, с упрямым подбородком и сильными руками, рослый, работящий парень Петр Анисимов.
Задумалась Дарья, как жить-быть ей теперь с такой большущей семейкою без мужа, Петра любимого, единственного, убитого еще в самом начале проклятой войны, без собственного угла. Кто поставит, срубит хату-светлицу ей? Ту, что Петр до войны выстроил, с петухом-флюгером на венчике крыши, сожгли фашисты дотла, корову, Зорьку, дойную, в Германию увезли. В деревню возвернулся с войны один Осип, без обеих ног, - Нюркин муж, да Фадей, без правой руки, муж Дуньки-телятницы.
Нюрка, как вернулся искалеченный Осип, учернелась лицом, замкнулась в себе.
- Ты, что, Нюра, аль не рада, что муж твой домой живой возвернулся? – спросила подругу Дарья.
- Рада-то, рада, да сам он не рад, что калекой остался на всю жизнь. Раньше-то он плясун какой был, весельчак. И работящ. Бывалоче на месте без дела не усидит. А теперь все цигарку крутит, во рту держит да самогон-водку требует, - пожаловалась Нюрка.
- А ты дай ему работу посильную, заставь что-либо делать, руки-то у него есть. Корзины, поди, раньше умел плести?
- Умел, да еще как умел, - вздохнула посветлевшая лицом Нюрка.
- Мы ему таких ивовых прутьев натаскаем! Вон сколь детишек бегает! Пошлем твоих троих да моих пятерых старшеньких к речке за лозой. Все по одному прутику принесут – и будет почти десяток. Пущай твой Осип цигарку сосет да корзины плетет. Вот и забудет про водку-самогон. В деревне теперь ничего не осталося. Все проклятый фашист забрал да разграбил, сапожищами повытоптал. Корзины-то чай пригодятся.
И стал Осип плести корзины. Всю деревню вскоре корзинами одарил: и под ягоды, и под грибы, и под картофель. Да так наловчился, что даже маленькие, изящные декоративные корзиночки из тончайших ивовых прутьев научился искусно плести.
А Дарья надумала сама хату ставить.
- Мужиков в деревне теперь нет. Один Осип твой да дед Матвей подслеповатый с Фадеем безруким и древним девяностолетним Антипом осталися. Буду сама хату рубить, - заявила Дарья Нюрке. – В лес возьму сына старшенького, Витюшу. Он пособит бревен потолще для стен нарезать. К зиме, глядишь, и поставим хату. Осип и Фадей советом помогут, подскажут, как углы рубить, как мох меж бревен прокладывать. Я Пете своему помогала мох подтаскивать, бревна обмеривать, когда он хату рубил. Видела, как он зарубины наискосок делал, чтоб бревно в бревно в углах туго заходило.
До осени уже стоял готовый сруб Дарьиной избы. Оставалось мох заготовить и привезти, меж бревен проложить, да крышу щепою покрыть. Взяла она с собой Витюшу, и пошли они в лес мох дергать.
Клюквы, брусники и черники в тот год уродилось видимо-невидимо.
Надергала Дарья с сыном мха кучу порядочную, сели они перекусить краюшкой хлеба да картошкой в мундире с огурцом соленым и немного отдохнуть.
- Мам, пойду, посмотрю, тут должна черника и брусника недалеко расти. Видишь, вон там, кочек много, а на них брусничник да черничник виднеется.
- Иди, сынок, а я пока посижу, передохну маленько. Да, смотри, не заблудись, аукай почаще. Лес-то здесь большой, частый, заблудишься – не выберешься.
- А-у-у, ма-ма-а-а-а, а-а-у-у-у! – откуда-то издалека услышала голос Витюши вздремнувшая Дарья. Поднялась, встрепенулась и помчалась на зов сына.
- А-а-у-у, а-а-у-у, а-а-у-у-у! Я иду-у-у, сы-но-ок-ок-о-о-о! – разнеслось гулко по лесу звонкое эхо.
- Смотри, мам, сколько здесь на кочках черники и брусники. Давай в платок твой будем собирать, домой принесем, всех накормим, - радостно предложил, увидев подоспевшую мать, Витюша.
Дарья сняла с головы верхний платок и стала собирать с сыном в него бруснику, переходя от кочки к кочке, а нижний платок, беленький, поменьше да потоньше, оставила на голове, на уложенной большим тугим узлом золотисто-русой косе. Да так увлеклись они брусникою и черникою, что и не заметили, как ушли далеко в лес от того места, где оставили приготовленный для прокладки бревен и утепления избяных стен мох.
- Глянь, сынок, где это мы очутилися? Лес что-то чужой, незнакомый. Деревья здесь высоченные, частые. Иди ко мне поближе, оглядимся, примета, небось, какая подскажет, в какую сторону к дороге, к жилью выбираться. Держись рядом со мной, не отходи далече, мы теперь друг от друга не должны отходить, чтоб поодиночке не остаться в лесу дремучем. Уже ночь надвигается. Как бы совсем не заблудиться и не потеряться.
Долго блукали Дарья и Витюша по лесу, из сил выбились. На пенек присели. На небе уже звезды высыпали. И стала Дарья смекать, в какой стороне деревня от леса находится.
Но тут вдруг недалеко промчался лось с лосихою и лосенком. Лось тяжелыми рогами с шумом задевал и обламывал ветки более низкого подлеска.
- Витюш, пойдем на тропу лосиную. Животные по ней, скорее всего, к водопою, к реке торопятся. Глядишь, и мы к реке выйдем тропой этой, лосем протоптанною, а там и разберемся, как до дому добраться.
Тропа лосиная привела к Ручью Кровавому. Вот, куда лоси на водопой ходят!
Вскоре ступили они на дорогу, на большак широкий, укатанный. И тут Дарья взглянула на небо. Высоко впереди горела над землей Большая Медведица. Вспомнилась Дарье молодость, как вскоре после свадьбы они с Петром поздним вечером с покосу возвращалися. В небе уже сияли многочисленные звезды и, словно девица-красавица круглолицая, смотрела на землю, проливая ясный свет, луна.
- Гляди, Даруша, какая ночь звездная, тихая, от земли тепло идет, травы душистые пахнут сладко, медвяно, аж голову дурманят. Пойдем, посидим возле речки, искупаемся, - предложил Петр. – Вода успокаивает, усталость снимает.
- Пойдем, - прильнула к нему нежно Дарья.
Постелил Петр пиджак свой покосный на песок, усадил на него Дарью, а сам в речку нырнул. А когда вышел из воды прохладной, омытый, свежий, присел рядом с ней, распустил косу ее золотистую и приколол к волосам лилию белую.
- Вишь, как тебе лилия водяная, белая идет. Да, ты сама, будто лилия расцветшая, незабудка моя ненаглядная, синеглазая.
Тут они у речки и зачали первенца своего Витюшку. Весь в отца пошел сын, крепкий, с вихрами темно-русых волос и волевым, с ямочкой подбородком.
К зиме новая хата Дарьи уже стояла на взгорке, открывая собой деревенскую улицу. На самом венчике крыши в память о Петре установила она флюгер с петухом, который вырезал Осип. Он ей посильно, сидя в своей коляске, помогал бревна обтесывать.
Когда сделала Дарья зарубки на последнем бревне, тут же находился и Осип. Она положила топор, села на бревно, сняла с головы платок, устало отерла лицо и натруженные руки. Тяжелый узел волос вместе с черепаховой гребенкой, подаренной ей на Рождество Петром, и шпильками неожиданно упал и тут же превратился в настоящий золотистый, рассыпавшийся по ее плечам водопад.
- Красивая ты, Дарья, ладная, работящая, на деревне равных тебе женщин нет. Кабы не моя Нюрка, взял бы я тебя в жены. Не посмотрел бы, что у тебя куча детей, - признался Осип, залюбовавшись неподдельной женственностью и пригожестью вдовушки-солдатки, собирающей снова в тугой узел пшенично-водопадные волосы свои.
Все дивились, какую добрую избу Дарья срубила. А она уже и печь побелила, и стол поставила в новой избе, и занавески ситцевые на окнах повесила, в голубенький цветочек, под синие глаза свои.
- Поди сюда, - подозвал к себе Осип вертевшуюся неподалеку восьмилетнюю дочь Дарьи, синеглазую Любашку. – На-ко, возьми, отнеси матери на новоселье, - и сунул ей в руки небольшую, искусно сплетенную изящную корзиночку.
- Да что ж ты ей пустую корзинку даешь? Там цветы должны быть. Погоди маленько, я счас, - придержала возле крыльца Любашку жена Осипа Нюрка и вынесла из дома пахучую, с буйными ярко-красными соцветьями герань. – Вот, поставь в корзину и отнеси в избу. Пусть теперь герань цветет в вашем доме на счастье.
Первую ночь в новой хате Дарья спала беспокойно, легла поздно. Давно задремали мать с теткой Сашуней за переборкой, в большой комнате угомонились набегавшиеся за день мальчики. С ними крепко спал вихрастый помощник Витюшка, а Машенька и Любашка уснули в отдельной девичьей комнате.
Наконец, Дарью тоже сморило. И видится ей, будто Петр сидит на краешке ее одинокой кровати, смотрит на нее пристально, жалеючи, нежно трогает, гладит щеку ее и спрашивает:
- Что ты аль умаялась, Дарушенька, так спишь крепко? Видишь, я пришел к тебе. Аль не хорошо нам с тобой было вместе, родная? Ведь ты всегда меня ждала, не ложилась спать, если даже по делам задерживался. И заулыбался ясной улыбкой так, как умел это делать только он.
Проснулась Дарья, села в кровати, резко откинув сшитое матерью к свадьбе, чудом уцелевшее от военного пожара лоскутное ватное одеяло в ноги. Никого. Только громкий стук сердца слышен в груди да светит, заглядывая в окно сквозь тонкую ситцевую занавеску, луна. Тронула она рукой щеку, которую только что нежно гладил, словно наяву, Петр. И так приятно, сладко было ей от этого нежного прикосновения мужа.
- Наваждение какое-то, - вздохнула Дарья, накинула на плечи, на золотые водопадные волосы свои цветастую шаль и вышла во двор, чтобы успокоиться, посмотреть на небо звездное, на Большую Медведицу, которой тайно ведала и рассказывала она с некоторых пор о своем горьком вдовьем одиночестве.
Много времени прошло с тех пор. Давно покинули земной мир мать и тетка Сашуня. Выросли дети. Двое сыновей и дочь Любашка подались в город, окончили вузы, да так там и остались. Старшенький, Витюша и младшая, Машенька, живут в родной деревне. У них уже растут внуки. А Дарья умерла на восемьдесят втором году жизни.
Чуть поодаль от родной усадьбы построил Витюшка новый просторный дом и посадил большой сад. А старую избу матери не захотел сносить, ломать и трогать.
Вот так и стоит уже семьдесят лет на возвышающемся взгорке с потемневшею от времени крышею срубленная Дарьиными бабьими руками хата. Стоит, как памятник, все умеющей, все пережившей, все успевающей русской женщине, как напоминание о прошедших кровавых днях, унесших множество жизней солдат, мужей, отцов, оставивших на родной, загубленной земле тысячи вдов и сирот.
А неподалеку от Дарьиной хаты все так же бежит, катит немолчные воды свои тихоструйная река детства. Днем в светлые, тихие заводи смотрится, словно в зеркало, родное, синее васильковое небо, а ночью отражаются в темных водах ее яркие звезды Большой Медведицы.